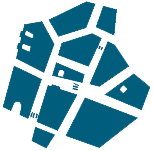Коренная люблинка. Бабушка, Перерва. Дедушка, Хотунь. Переезд дедушки в Москву. Смерть в колодце. Раскулачивание. «Умалчивание» в семье. Люблино: деревня, город, часть Москвы. «Люблинцы». Прабабушка. Пятьдесят девятый дом. Крушение на Курской железной дороге (00:00:50 – 00:10:13)
[Расскажи, значит, ты родилась в Люблино?]
Я родилась в Люблино в 1975-м году, в шестьдесят восьмой горбольнице. Вот, и о себе я могу сказать, что я не столько коренная москвичка, сколько именно коренная люблинка. Потому что моя бабушка родилась… памяти которой я хочу посвятить это интервью, Валентина Филипповна Кузякина, она родилась в деревне Перерва, которой сейчас уже не существует. Эта деревня располагалась вокруг Николо-Перервинского монастыря, и она помнит как раз свое житье в частном деревенском доме. Она происходит от… Филиппа, я, к сожалению, не помню отчества, Кузякина. А ее мать Анна, мы о ней знаем только фамилию ее в замужестве, соответственно. Потому что она была нищенкой, и никто не знает, откуда она…
[То есть, прабабушка, получается?]
Прабабушка, да. Была прабабушка нищенкой, и о ней никто не знает ничего. А мой дед Николай… Ральцев – он происходит из Тульской губернии, Ясногорский район, село Хотушь. И он приехал в молодости в Москву работать на железной дороге.
[В какие годы?]
Это довоенные годы, это примерно [19]34-й год. И вместе с ним приехала вся его семья.
[То есть, дедушка – это который стал мужем бабушки покойной?]
Да. Совершенно верно, дедушка, который стал мужем бабушки, он приехал до войны примерно в [19]34-м году. Там семейная память связывает этот переезд с событиями коллективизации, раскулачивания.
[В [19]34-м году, да?]
Примерно в [19]34-й год. Я, к сожалению, не могу сказать наверняка, но примерно [19]34-й. Дело в том, что один из его родственников — он состоял в кабинете… ой, не в кабинете, а в Комитете бедноты, и его бросили в колодец. Вот.
[То есть односельчане?]
Односельчане, да. И из-за этого семье пришлось…
[И убили?]
И убили, да.
[Насмерть?]
Насмерть. Да, да. Но у нас как-то умалчивается обычно о смертях, то есть бросили в колодец, понятно, что утонул. Вот, и после этого… Но вместе с тем там сложная история, то есть, один в кабинете… Господи, всё я в кабинете! В Комитете бедноты – он был брошен в колодец, а часть семьи – она как раз была раскулачена. Потому что у них была чайная в селе Хотушь. Их вывезли куда-то в Сибирь, куда именно я не знаю. Но опять-таки семейная легенда гласит, что одну из моих родственниц как раз… она была очень маленькой, ей было около года, ее вывезла как раз другая родственница, сестра моего дедушки, маленьким ребенком из Сибири. Она как-то приврала то ли, что это ее ребенок, но в общем, ей удалось каким-то образом вот только ее спасти из той ветки семьи. И то семейство, которое переселилось из Хотуши, оно было довольно большим, потому что наша семья – она дружила как раз с семьей сестры моего деда, с Анной Федоровной. Дед мой Николай Федорович Ральцев, а она Анна Федоровна Ральцева. И все они жили в Люблино. Я родилась в железнодорожном доме…
[Подожди, я запуталась. Значит, дедушка твой бежал от раскулачивания?]
Да.
[И от того, что угрожали ему как члену семьи комбеда?]
Вот это, честно говоря, у нас никогда не проговаривалось. То есть говорилось о том, что обстановка была такая, что надо было срочно бежать…
[А как он объяснял про раскулачивание? Или вообще никогда не говорил? Ты его помнишь?]
Я его помню прекрасно, но, к сожалению, мой дед умер в [19]80-м году, когда мне было четыре года. И я, к сожалению, не успела его подробно расспросить. А старшие родственники – они как-то говорили об этом, постоянно умалчивая эту тему, и было как-то неудобно.
[А как они умалчивали?]
Ну они просто вот делали такое вдохновенное лицо и говорили…
[«Ну вы понимаете», да?]
Вот. Да. То есть, а вот его бросили в колодец. Мне вот не приходило в голову спрашивать, а как это, ну бросили, что с ним дальше, мало ли, вдруг он как-то выжил? Что с ним дальше было? Мне не пришлось спрашивать. Или вот, например, для меня сейчас для самой загадочная история вот этого вот вывоза из Сибири ребенка. Потому что по идее они же были там все учтенные, их надо было как-то отмечать. Но вот, говорится о том, что вот…
[То есть он успел ребенком попасть в ссылку?]
Нет, он к тому времени уже был довольно большим. А это другая наша родственница.
[Ее вывезли?]
Ее вывезли. Да. Ее вывезли, и почему об этом говорится, потому что та, скажем так, спасшаяся ветка нашей семьи – она оказалась в Ташкенте. А почему в Ташкенте, потому что, когда она выросла, она поехала учиться в Ташкент для того, чтобы в Москве не спрашивали, кто она, откуда и так далее. То есть, что называется, от греха подальше. Вот. А вся практически семья, и вот эта вот перервинская ветка условная, и вот эта тульская ветка — они все поселились в итоге вокруг железной дороги.
[В Люблино?]
В Люблино. Да.
[Он не метро строил?]
Нет, он не строил метро. Он строил… Он не строил, он был машинистом на Курской железной дороге.
[И там в Люблино тогда было что?]
Люблино – это тогда был дачный поселок сначала, потом это стал город Люблино. У моего отца написано в паспорте, что он родился в Люблино. Потому что Люблино только в [19]63-м году стал, собственно, Москвой. И поэтому я люблю шутить о том, что я первый человек в нашей семье, который родился в Москве. Потому что бабушка родилась в Перерве, дедушка, соответственно, в селе, папа в городе Люблино, а я уже в Москве, хотя я родилась практически в том же самом месте, где и моя бабушка, где мой папа. Но, тем не менее, мы вот все родились в трех разных местах.
[А вот вы говорите «люблянка» или «люблинка»?]
«Люблинка».
[Жители, вот жители Люблино?]
Ну мы обычно говорим «наша люблинская».
[Люблинская?]
Да. То есть вот когда как раз начались празднования, я помню, в [19]85-м примерно году, Дня города, тогда, собственно, и началось такое создание своеобразного топонима «люблиницы, люблинки». Я помню, тогда очень неправильно говорили «Лю\блинский район». Вот нас это страшно бесило всех. Потому что район был «Любли\нский» всегда. Вот, и соответственно, мы любли\нцы. Но мы сами так себя не называем, мы говорим там «наши», «люблинские». И обычно там говорится уже каким-то более местным топонимом, там «из Люблино», «из Печатников», «из Марьино». Потому что это же всё окрестности.
[А мне стало страшно интересно, бабушка, получается, была дочерью какой-то нищенки, да?]
Да.
[А каким образом? И что вы про эту нищенку знаете?]
Мы про эту прабабушку, к сожалению, знаем очень мало. Потому что она умерла до войны. Она каким-то образом вышла за моего прадеда. Мой прадед — сталинский Герой Труда. Вот, и поэтому они как раз переселились из частного дома, в котором они жили… ну, такой был, полубарачного типа, они переселились в первый в Люблино каменный дом довоенной постройки. Это так называемый «пятьдесят девятый дом», сейчас он уже не пятьдесят девятый, я могу потом выслать точный, какой это адрес сейчас. Но для коренных люблинцев, которые родились, как говорится, до всех этих событий, это очень памятный дом. То есть, где пятьдесят девятый дом знают все, потому что он ровно напротив железнодорожной станции. Это такой очень большой красивый дом с коммунальными квартирами. И там жили очень уважаемые люди. Там жил Олег Даль. Олег Даль тоже люблинец. Там жил, ну не чемпион, но, во всяком случае, гроссмейстер по шахматам, я сейчас, к сожалению, не помню, Алёхин, по-моему. Там жили все руководители московской Курской железной дороги. И в связи с этим связаны тоже очень печальные события. Потому что моя бабушка рассказывала, что в [19]30-е годы, когда она училась в школе, тогда начались как раз громкие дела. Тогда было, я не помню точно, в каком году, крушение на московской Курской железной дороге. Это можно найти, потому что это вот такое большое событие, которое было отражено в газетах. И в этой связи было очень много посадок. И бабушка помнит, что там придешь в класс, и половины девочек нет. То есть, куда они делись, тоже никто об этом не говорил. Ну… вот нет и нет.
Бабушка. Деревня Перерва. Судьба прабабушки. «Нищенка». Сестры-сироты. Усадьба Дурасовых. Работа в столовой. Детский сад. Вынос еды. Досмотр (00:10:13 – 00:20:55)
[А какого года была бабушка?]
Бабушка была 1926 года рождения.
[Значит, она родилась в деревне?]
Да, она родилась в деревне Перерва.
[Будущий район… часть будущего Люблино?]
Ну, строго говоря, она родилась в Печатниках. Потому что Николо-Перервинский…
[Но тогда это была деревня?]
Тогда была деревня, да. Абсолютно верно. Деревня Перерва.
[Я уточняю, чтобы потом точно поставить на карте как бы. Получается, в [19]26-м году родилась? Соответственно, получается, что твоя прабабушка родилась где-то там, на рубеже веков?]
Ну бабушка, судя по всему, родилась где-нибудь в году [1]906-м, потому что, когда родилась моя бабушка, она не была очень пожилой. Ну и тем более, раньше же браки заключались гораздо раньше. И учитывая, что она была нищенкой, ее задача была как можно скорее пристроиться.
[Она родилась в такой субкультуре нищих?]
Нет. Мой дед, точнее прадед, он уже тогда был такой главой семьи, зарабатывающий, и бабушка как раз говорила о том, что напротив, мама их очень чисто содержала, заботилась о них, насколько могла. Просто ее прабабушка… точнее, моя прабабушка, ее мама, умерла, когда бабушке было лет двенадцать. Соответственно, она еще не очень долго ее застала. И она говорила о том, что мама болела и что папа ее бил. И, судя по всему, отец ее забил… мой прадед – он ее забил насмерть.
[Это тот прадед, который был Героем?]
Да.
[Он потом стал Героем?]
Потом стал Героем Труда. Я видела его фотографию, я не большой, как бы это сказать, мастер определять какие-то склонности характера по лицу, но… Я о нем вообще ничего не знала, потому что бабушка о нем очень мало говорила, что вот там, дескать, папы был жив, папа умер. И это была трагическая история, потому что бабушка в четырнадцать лет перед войной осталась одна. То есть… Ну не одна, а с двоюродной сестрой на руках. И войну она встретила подростком и совершенной сиротой. То есть в какой-то степени повторила судьбу своей матери. Потому что мать тоже была, что называется, нищенка не на пустом месте. Она была сирота. И я могу предположить, ну вот исходя из своих уже более поздних этнографических занятий, что моя прабабушка – она была откуда-то вот, которая нищенка, из Мордовии. И мне кажется, что это могло быть связано как раз с голодом в Поволжье. То есть, может быть, она тоже в свое время бежала. Да. То есть это было такое не систематическое, а окказиональное нищенство. Ну или может быть даже «нищенка» – это было ее какое-то такое прозвище семейное. Потому что она явно находилась в семье в таком низком положении. Так что, может быть, она даже не была нищенкой в полном понимании нашего слова. Может быть, она просто в таком бедственном положении оказалась, и ее за это потом как-то вот так гнобили.
[Наташ, значит, твоя бабушка осталась перед войной сиротой.]
Да.
[И что с ней произошло?]
А с ней произошло следующее. У нее на руках еще была родная сестра Маруся. И вот… моя бабушка Валентина. Она Мария, значит, и Вале было четырнадцать лет, Марусе было двенадцать лет. И первым делом, конечно, встал вопрос о работе, и бабушке пришлось уйти из школы. А тогда школа располагалась в том здании, которое сейчас принадлежит Институту океанографии. Это одно из зданий современной усадьбы Дурасовых. А когда я гуляла, то мне папа показывал, что вот, ты видишь вот здание в парке? «Это школа, в которой училась твоя бабушка». Разумеется, это было… построена она была как не школа, а как другое здание. Его можно сейчас атрибутировать, там хорошие есть атрибуции по этой усадьбе. Вот, в общем, из школы пришлось уйти, и Маруся пошла мыть бутылки в аптеку. И это было удобно, потому что аптека находилась в том же доме и, во всяком случае, рядом, где они жили. А бабушка пошла работать в столовую при железной дороге…
[А Маруся – двоюродная сестра?]
Маруся – двоюро… нет, родная сестра.
[Бабушка осталась с родной сестрой?]
Да. Бабушка осталась с родной сестрой Марусей. И бабушка пошла работать в столовую. И как я сейчас понимаю, это было очень правильным ходом, потому что это была еда. То есть она, очевидно, как-то сообразила, что надо спасаться. И она как раз рассказывала о том, что она выносила тесто в кармане. Выносила капусту, выносила какую-то картошку для того, чтобы подкормить Марусю. Ну, потому что ей самой, видимо, всё-таки украдкой удавалось, что называется, подъедаться. А Марусю надо было кормить. И таким образом она Марусю подкармливала. И всю войну моя бабушка проработала поваром на железнодорожной станции. Ну, имеется в виду, не в буфете, а там, где кормились все вот эти… машинисты и так далее, и так далее. А после этого, вот, кстати, недавно говорили об этом на похоронах, она работала в детском саду. И одна из моих современных родственниц, которая тогда была ребенком, она, по-моему, какого-то предвоенного года, [19]39-го, что ли. То есть вот она помнит: «И вот я помню Валю, как сразу после войны мы были в детском саду, есть было нечего, а Валя всегда в таком вот белом фартучке, в такой вот белой шапочке, и она нам всё ровно-ровно раскладывала. Она всегда всё делила ровно, и она всегда старалась, чтобы каждый ребенок был накормлен, чтоб все поровну досталось, и она, если могла, давала компоту добавки». Говорит, я вот еще не знала тогда, что это наша родственница будущая, но вот я тогда Валю запомнила.
[Класс. А как их не забрали в детский дом?]
Сложно сказать. Потому что у нас как-то даже в голову это вот не приходило. Вот как это случилось? Я могу предположить, что считалось, что она уже достаточно взрослая, поскольку она могла зарабатывать. То есть она была работающей, она не была иждивенкой. И я думаю, что один из, говоря современным языком, мотиваторов ее, что она сразу так пошла работать, это именно заключалось в том, чтобы Марусю не забрали в детский дом. Потому что ей всё-таки четырнадцать лет плюс предвоенное время. Я не знаю трудового законодательства, но, по-моему, тогда в четырнадцать лет человек был полноценный работник. Соответственно, что ему делать в детском доме?
[А Марусе было сколько лет?]
Двенадцать. Марусе было двенадцать лет, и вот Марусю, что называется, могли загрести. Но она, видимо, там или оформила опеку или ещё как-то. И плюс это всё-таки предвоенное время, я могу предположить, что там не было особого дела. Что называется.
[Предвоенное – это какой год? Не помнишь точно?]
[19]40-й.
[40-й?]
[19]40-й.
[А вот то, что она выносила там в карманах… хлеб там, тесто – это как-то… она боялась?]
Боялась, очень. Она очень боялась. Она говорит: «Я прям тряслась». Говорит: «Сама не знаю, как мне это удалось. Но я выносила всё равно».
[Желание накормить Марусю было сильнее?]
Конечно. Конечно. Она… Я могу сказать, что все вот эти вот ее военные рассказы, они именно наполнены таким страхом за сестру, что вот она есть, и ее надо кормить, и вот она младшая, и что она никак без нее вообще не выберется. Вот. Поэтому это был страх. Плюс у нее еще всплывал один какой-то такой рассказ, я бы сказала, сексуального характера. Правда, ну она, как и многие люди ее поколения, вообще про секс ничего не говорила. Она даже не говорила, как они с дедушкой познакомились. Я могу только предположить, что называется, как дело было. Она говорила, что там был один парень, который их досматривал, и она думала, что это он так…
[На проходной?]
На проходной. Что это он так с ними заигрывает, а он на самом деле старался залезть, что называется, везде-везде, чтобы как раз нащупать то, что они могли сложить себе в самые интимные места. Я подробно об этом не расспрашивала, и она об этом говорила только тогда, когда она уже была очень больна. Моя бабушка пережила инсульт, и после этого у нее несколько изменилось сознание. То есть она очень много говорила о прошлом, современность ей была уже гораздо меньше интересна. И вот она говорит: «А я-то думала, что он нас ласкает, что он нас любит! А вот все же совсем по-другому было!».
[Значит, регулярно их обыскивал, да?]
Да. Ну я не знаю, насколько регулярно, но вот это было, и, как мне кажется, это такое очень сложное событие. Потому что, с одной стороны, ну, всё-таки это, что называется, молодая кровь, и можно предположить всё, что угодно, а с другой стороны, это такой риск, когда это связано совершенно не с сексом, а то, что если он там найдет то, что спрятано, то страшно себе представить, что…
[А где она прятала?]
В лифчике прятала, например.
[Но… и он не находил?]
Нет. Не находил. Во всяком случае, она не говорила, что находил. Может быть, ее как-то жалели, потому что у нее была очень хорошая репутация. Она говорит, что ее любили, что ее всегда старались подвинуть так к котлам поближе, что вот за ней присматривали какие-то, скажем так, старшие товарищи. Ну там, может быть, какой-нибудь или начальник кухни или еще что-то. То есть все знали, что у нее очень сложное положение, что она одна, и ее старались вот как раз… сделать все, чтобы она осталась при кухне.
Окопы. Лесоповал. Томилино. Грамота и валенки. Наступление немцев. Несостоявшееся удочерение. Бомбежки Люблино. Арка. «Зажигалки». Светомаскировка. Учительница. Капустные листья (00:20:56 – 00:32:47)
Тем более, что был такой драматический эпизод, что когда началась война… вот это я, кстати, не знаю, кто тогда кормил Марусю, она про это не рассказывала, но вот сейчас приходится задаваться этим вопросом…
[Гнали на окопы?]
Да. Ее угнали на окопы, и, можно сказать, что она там оставила половину здоровья и вообще чудом родила следующих четырех детей, которые у нее всё-таки родились в свое время. Вот, потому что ее угнали, во-первых, на окопы, во-вторых, на лесоповал. И у нее была повреждена нога. Потому что это, судя по всему, было как раз в октябре, и она говорит: «Я помню, мы роем-роем окопы, а все закричали «немцы, немцы!» Я полезла наверх по лопате». И съехала, и у нее очень повредилась нога, ну прям…
[Порезала?]
Клок мяса едва ли не выдрался. И…
[А где они рыли окопы?]
Она не может сказать точно. Я была тогда так мала, что я как-то… когда она про это рассказывала, что я как-то не сообразила, да, что, действительно, где, где? Я могу предположить, что где-нибудь, ну в нашем районе. Где-нибудь в районе Томилино. Там вот еще что-нибудь. Потому что вот Томилино – что-то такое всплывает, что называется. Вот. И более того, ее угоняли несколько раз на лесоповал.
[А какое место? Ты его не знаешь?]
Нет. Потому что…
[Поблизости от Москвы?]
Ну не так далеко от Москвы. Не так далеко от Москвы. То есть, это без вывоза там куда-то совсем далеко. Но проблема заключалась в том, что она там была этим… передовиком производства по этому самому лесоповалу, она завоевала первое место, и ей дали грамоту.
[А кем она конкретно была? Не помнишь?]
Нет.
[Сучкорубом?]
Она не говорила, кем. Потому что для нее самым главным было то, что она на этом лесоповале тоже оставила еще одну часть здоровья. Потому что она говорила о том, что были ужасные условия. Ей всё время приходилось ходить в мокрой обуви. Вот. И у неё были одни ботинки. Что не удивительно. И как раз, когда она получила эту самую грамоту, то ей сказали, что вот, мол, вот тебе, Валя, грамота. А она при том, что у нее был довольно кроткий характер. Ну и вообще, сиротство наложило на нее большой отпечаток, потому что ей нужно было выживать, и она так всегда старалась очень со всеми такие… культурные отношения наладить. Подладиться как-то так вот. Подлезть. Иногда подольститься. И она тогда впервые пришла, что называется, грохнула кулаком по столу и сказала, что вы знаете, мне не нужна грамота, вы дайте мне вторую премию. А вторая премия была валенки. А ей сказали: «Дура ты, Валя. Валенки ты износишь, а грамота у тебя навсегда останется». И она как раз говорила о том, что если бы жива была моя мама и если бы жив мой папа, меня бы никогда не угнали ни в какой лесоповал. А там воспользовались тем, что некому за нее заступиться, и ее просто насильно вывезли. То есть, я не думаю, что много девушек там было. То есть это… Ну женщины, наверное, были, но всё-таки более зрелые, чем там пятнадцатилетняя, шестнадцатилетняя девушка.
[Так получила она валенки?]
Нет. Собственно, у нее на ногах был артрит очень сильный, и она не могла носить ни одну обувь, у нее прям так сильно были скрючены пальцы, это вот с того самого времени. Вот. Но, тем не менее, к счастью, войну они пережили.
[А она не рассказывала про наступление немцев, собственно говоря? Как вот паника в Москве была?]
Рассказывала, рассказывала. Рассказывала, но она рассказывала опять-таки только про себя. Она не рассказывала про всех.
[Ну расскажи про то, что она рассказывала.]
Конечно, конечно. Она рассказывала, что когда вот началась вот эта паника, когда заговорили о том, что скоро будут немцы, то все поехали кто куда, у кого куда было вообще. А им ехать было некуда. И поэтому они заплакали, разобрали дощатый пол и спрятали там комсомольский билет.
[Они с Марусей?]
Они с Марусей. Она говорит: «Вот я помню, как мы плакали и прятали этот комсомольский билет. И сидели плакали, потому что понимали, что нам некуда бежать. То есть вот когда всё случится, мы тут останемся и неизвестно, что с нами будет». То есть… Ну и поскольку они были тоже нищие практически, больше им прятать нечего было. Но так паника была очень сильная.
И если говорить опять-таки о нравах, что называется, того времени, то там вот еще до войны, еще когда она осталась одна, и война еще не наступила, и когда как раз встал вопрос о том, чтобы ей уйти из школы… У нее была подруга Лина Мороз. Она говорила, что она откуда-то происходила из Украины, во всяком случае, ее родители. И они переехали работать именно на Курскую железную дорогу. Он там был то ли главный инженер, то ли вот еще какой-то такой, что называется, большой начальник. И когда она осталась одна, то они решили ее взять к себе, усыновить, удочерить, чтоб она смогла дальше учиться. Но она спросила: «А Марусю вы возьмете?» Они сказали: «Нет. Мы можем взять только тебя». Она тогда осталась, сказала, что нет, без Маруси ничего мне не надо. Вот. Вот такая вот история усыновления.
[Неудавшегося.]
Ну… да.
[Мужественный поступок.]
Мужественный, конечно. Но это надо знать мою бабушку. Она вот… редкой силы, искренности и щедрости человек. Она бы по-другому не поступила никогда.
[Получается, что они с Марусей жили в квартире деда?]
Да. Дед умер, а они жили в коммуналке.
[И ее не пытались отобрать?]
Нет. Ее не пытались отобрать. Более того, ей там при всей кротости… Ну, во-первых, судя по всему, что когда была война, как-то вот народ притих. То есть вот всякие там разговоры о каком-нибудь хулиганстве, о преступности – они относятся скорее вот именно к послевоенной эпохе, то есть про войну никаких ужасов я не помню. Помню, напротив, она говорит: «Вот, бывало, какая-нибудь бомбежка, темно, свет отключили, вот ты идешь по лестнице и страшно. И все за стены держатся, там «Валя, Валя, это ты?» Там «Коля, Коля, это ты?» И чтобы там были какие-то преступления, грабеж, мародерство, ни о чем таком она не говорила. Она говорила о том, как бомбили Люблино. Потому что Люблино – это был крупный железнодорожный стратегический узел, и даже я позже читала в сводках о том, что Люблино действительно бомбили. То есть, что ну вот это вот прям… В сводке [19]41 года именно бомбежки этого пункта особенно отмечаются, потому что через Люблино шло очень много военных грузов. Плюс в Люблино был и, собственно, просуществовал до конца советского времени завод Люблинский литейно-механический. Который делал оси для колес. Он был единственный в стране, соответственно, это тоже был стратегический узел. Это всё бомбили очень сильно. И бабушка рассказывала, как бомбили Дом культуры имени Третьего интернационала. Рядом с ним упала бомба. Это недалеко от этого дома. И была взрывная волна такой силы, что ее даже отнесло под арку. Она рассказывала, как «я вот вышла за молоком, вот я стою в очереди, тут падает бомба, и такая взрывная волна, что там прям вот…» Там пол-очереди падает, а ее прямо… в эту арку, ну… Причем просто для меня это так живо, потому что я эту арку могу, что называется, пальцем показать. Вот ее в эту арку отнесло.
[А бомбоубежища не было там, да?]
Она ничего не рассказывает про бомбоубежища. Она рассказывает про то, что они… у них было дежурство на крыше, что они ловили «зажигалки», что вот они их тыкали в песок. Она рассказывала про то, что у них была вот эта вот защита, то есть, когда надо было заклеивать окна, и светомаскировка, вот так это называется, завешать это всё одеялами. Но она ничего не говорила про бомбоубежища, а спросить я тоже не догадалась. Потому что к бабушкиным рассказам – к ним относишься как-то вот как к легенде. То есть вот у нее есть тоже такой… там структура своеобразная, такие вот события, которые из раза в раз почти что одинаково пересказываются, и как-то вот даже не приходит в голову спросить там… например, спросить, какой диагноз был у Ильи Муромца, например.
[А продуктовые карточки она получала, потому что она работала?]
Да.
[Продуктовые карточки она получала?]
Карточки получала, да.
[И они как бы там рассказывали про голод или еще что-то такое?]
Нет. Дело в том, что ей как раз удалось избежать голода именно потому, что она работала в столовой. То есть у меня так…
[И столовую не закрывали во время войны?]
Нет. Столовую не закрывали. Более того, я могу рассказать со слов моей первой учительницы. Моя первая учительница Клавдия Николаевна Холина. И она тоже из Люблино. И, насколько я поняла, ее первые годы педагогической практики как раз пришлись на предвоенные и военные годы. И дело в том, что наш район – он застраивался от железной дороги. И на месте некоторых тех домов, рядом с которыми располагалась моя школа, там были поля. И вот она нам как раз рассказывала, что: «Вот, дети, мы сейчас учимся в школе, а вот тогда мы вот сюда ходили на поля подбирать, эти самые…»
[Колоски?]
Не, не колоски. Капустные листья. У нас всё-таки пожирнее было, потому что у нас там вот улица Совхозная, там совхоз имени Горького. Соответственно, всё вокруг этого было такой полноценный совхоз. И вот они ходили на поля, они там собирали какие-то вот эти все оставшиеся картошки. Вот капустные листья – это мне прям запало, потому что я представила: вот эти дети бедные, парами построенные, там идут… А первая ее школа, судя по всему, она была как раз недалеко от того дома, где жила моя бабушка. Судя по тому маршруту, как она описывала, как они с детьми ходили эти листья собирать.
[Они собирали, чтобы прокормиться или для школы?]
У меня такое ощущение, но это я фантазирую, вот как я это воспринимала тогда ребенком, что они это собирали для школьной столовой. То есть целенаправленно выводили детей для того, чтобы они собрали то, что осталось, и чтобы из этого из всего можно было там для всех что-нибудь приготовить. То есть в ее рассказах это не было как что-то собранное для индивидуального пользования.
Семья в достатке. Знакомство бабушки и дедушки. «Матриарх». Жители дома. Постройка «хозяйственным способом». Деревенский контингент. Вишни-яблони. Гуляния на первомай. Маёвки в Кузьминках. «Круг». Обычай гулять всей семьей (00:32:50 – 00:42:40)
[А после войны там на полях не собирали какую-то еду?]
Нет. А дело в том, что все мои родственники – они были железнодорожниками, а железнодорожники очень хорошо зарабатывали по тем временам.
[Им паек давали.]
Вот не знаю, как насчет пайка, но в моей семье одной из первых появился телевизор. Всегда говорилось о том, что дедушка хорошо зарабатывал, и действительно, у меня есть фотографии детские и моего отца, и моей бабушки, где они в Гаграх и Батуми, а в те времена мало кто мог себе позволить. А это вот была такая, что называется, простая рабочая семья. Плюс бабушка шила. После войны, когда у них появились дети, она уже не работала, она занималась частными заказами как раз. Вот. И… То есть они настолько хорошо зарабатывали, что вот эта тема их уже не касалась.
[Давай вернемся к биографии бабушки.]
Да.
[Война закончилась. Ей, соответственно, когда война закончилась, девятнадцать лет.]
Да.
[И что дальше с ней происходит? Она работала всю войну в столовой?]
Она работала всю войну в столовой. Потом она каким-то образом, непонятным для меня, она встретила дедушку. Но, как я себе это представляю, дело было так. Дело в том, что мой дедушка – он принадлежит к такой, как я бы это для себя сказала, тульской диаспоре. То есть, когда вот практически всё село там, потому что… Точнее, деревня. Хотушь – это всё-таки деревня, а не село, я неправильно сказала. Они кто по семейным обстоятельствам, кто просто на заработки выехали на железную дорогу. Но дело в том, что у нас вот, судя по соседям, которые жили в нашем доме, в котором я родилась, там было очень много семей как раз из Тулы, из Орловской области. То есть, судя по всему, все вот эти вот… кто по этой ветке жил, они так или иначе, если могли, перебирались в Москву как раз. Ну вот. И в общем, половина дедушкиной деревни жила в Печатниках. Где как раз и работала моя бабушка. В этой самой столовой. У меня такое ощущение, что вот это вот как раз Анна, сестра деда, она ее приглядела, что называется, и как-то их познакомила, и они поженились.
[Сестра деда познакомила как бы специально твою бабушку будущую с дедушкой?]
Да.
[А сестра была старше?]
Да. А сестра была старше, это вот она как раз вывезла ребенка из Сибири. Но она такая была, прям матриарх. Потому что, собственно, их мать и отец — они остались в Хотуши, и она тут стала главой семьи такой своеобразной.
[Ты так думаешь или у тебя есть смутные намеки на то, что это было так?]
[Нет, это, во-первых, действительно было так, потому что до тех пор, пока она была жива, то мы обязательно к ней ездили на все праздники, то есть было принято собираться у нее, то есть тетя Нюра – это такой вот… Сначала тетя Нюра, потом деда Коля и потом моя бабушка. То есть тетя Нюра у нас всегда была на первом месте. Но она действительно и производила впечатление и была такой мощной женщиной.
[А правильно я поняла, что, значит, дедушкина деревня вся переехала, ну или частично переехала в Москву? Сколько примерно семей в вашем доме жили из Тульской и Орловской области? Ну примерно там? Мы говорим о пяти, о десяти?]
Да, я понимаю. Ну, из тех, кого я лично знаю, семей пять. Семей пять. У нас даже вот таких вот городских никого не было. То есть у нас все были деревенские. Ну просто семей пять – это я знаю откуда, остальные я не знаю откуда. И потом, вот что интересно. Если посмотреть на наши дома, я родилась в такой классической хрущевке, но… какой же это год? [19]62-го года постройки. Это железнодорожный ведомственный дом, построенный хозяйственным способом. То есть его строили они там сами [смеется].
[То есть?]
Это они там после работы должны были еще идти строить дом.
[То есть хрущевку эту строили так?]
Да.
[В [19]62-м году?]
Да. То есть ее строили… В [19]62-м году получили квартиру, значит, строили они где-нибудь, наверно, с [19]60-го по [19]61-й какой-нибудь год. Вот. Но…
[Это называлось «хозяйственным способом»?]
Да, «хозяйственный способ».
[О ней так дедушка говорил?]
Нет, это моя мама так говорила, потому что, когда мы… Ну, дело в том, что моя мама архитектор. Она знает, как что, что называется, правильно называется. Тем более что она работала в управе. И просто, когда мы начали делать ремонт, то мой муж, он удивился, что, что это, говорит, стены вообще из шлака? То есть там вот два ряда такой этой замазки и между ними шлак. Ну, говорит, что же, это же, говорит, хозспособом дом строенный! Вот тут вот и стены кривые там, и из шлака они, потому что вот. Из чего было, из того и строили. То есть это не централизованное московское строительство, там СМУ какие-нибудь или еще что-то. Там к работе привлекались в том числе и сотрудники ведомственных мероприятий.
[Получается, люди, которым обещали жилье в этом доме, они по вечерам работали на стройке?]
Ну, да. Работали так. Ну просто по чему еще можно определить, что там совершенно точно жили деревенские люди? Потому что, если посмотреть, у нас весь дом, он усажен, вот первый самый этаж, палисадники так называемые, вишнями, яблонями, то есть вот. И до сих пор они сохранились, это очень трогательно. Я это вижу и в других районах Москвы. Потому что сразу видно, что это люди из деревни, вот тут им лысо-голо, вот они вот посадили вишни-яблони, там всё это цветет. Более того, у меня под балконом росло две яблони, их не мой дед посадил, это вот какие-то соседи снизу, но они тоже посадили всё это по своей деревенской привычке. И еще, я отчетливо это помню, я информатор, что называется, зуб даю… Примерно до [19]82 года, потому что первые воспоминания относятся к тому, что мне, наверно, года три, значит, это [19]78-й год. 1 мая у нас идет вот прям гуляние натуральное по Краснодарской улице. Несут красные флаги, и у нас много баянов. То есть не один баян, кто-то с баяном, а много баянов, все поют. Чего-то народное тоже поют. То есть я точно уже не знаю, что они поют, но вот я помню вот это мое детское впечатление, как вот я лежу вот так вот на подоконнике, мне ужасно весело, потому что вот это вот – баян. Вот обычно баян на улице…
[Пели там не только советские такие официальные песни?]
Не только советские песни. Пели какие-то такие… я бы сказала, советско-народные песни типа «Ой, рябина-рябинушка», ну что-нибудь в этом духе. Но много деревенских песен. Более того, и пели, и плясали по-деревенски у нас тоже.
У нас еще вот рядом парк Кузьминки – вот там были натуральные маёвки. То есть, потому что там было вот именно принято собираться. Я помню, как там собирались большие прям вот круги так по-деревенски. И там тоже и пели, и плясали.
[Это на 1 мая?]
Ну вот мне запомнилось на 1 мая. Но я думаю, что это было не только на 1 мая, но и там на 9 мая, ну вообще на такие вот праздники теплого времени года, назовем их так. На 1 мая-то это точно. Потому что такое открытие сезона своеобразное.
[А что ты называешь словом «круг»?]
Круг — это когда так вот собираются на поляне много людей. Там два-три баяна. Там частушки какая-нибудь тетка орет, и мужики пляшут вприсядку. И тетки тоже плясали.
[Это ты помнишь на своей памяти?]
Да, это я помню на своей памяти. Плюс у нас еще на все праздники было принято гулять, вот прям собраться семьей и вот идти гулять в те же самые Кузьминки. Ну там это всё близко, в пешей доступности. И по улице тоже было принято гулять семьями. То есть это вот, ну… Я просто потом сама стала этнографом, я знаю, что это в деревне так принято. Вот у нас это было принято. И я даже помню, даже, например, на… довольно до позднего времени там день рождения моей мамы, 23 марта. Казалось бы, так, не совсем теплая весна, нет, вот все выходят, всей семьей нужно выйти. И вот я помню эти праздничные гуляния: посидели за столом, вот теперь вот надо идти гулять. Вот все вот встают, выходят. И если это большой праздник, то выходишь в парк, и там все тоже в парке, в Кузьминках, тоже гуляют семьями. И вся улица гуляет. Вот именно я помню ощущение такое — гуляющей улицы.
[Это ваша Совхозная улица, да?]
Нет, моя улица Краснодарская.
[А когда эта прекратилась традиция?]
Мне сложно сказать наверняка, но вот после того, как я пошла в школу, а в школу пошла я в [19]82-м году, то есть ну… я вот таких вот ярких впечатлений с баяном что-то не помню. То есть я могу предположить, что где-то в [19]82-м, [19]83-м году вот именно такие вот баяны закончились. Но такие прогулки еще остались. А уже к [19]86-му году эта культура вообще как-то так стихла. У нас только собирались после этого времени пенсионеры. У нас даже были в Кузьминках такие как бы специальные навесы от дождя, под которыми можно было сесть, там поиграть в какие-то шахматы-домино. То есть, вот это было. Там собирались. Но вот именно так, чтобы с песнями, с плясками — я не помню такого уже.
Тетя Паша. Люблинский пруд. Плавание на наволочках. Карниз. «Честное ленинское». Разведчик Карацупа. Поездки в кино. Баскетбол. Физкультурные парады. Женитьба бабушки и дедушки. Первые дети. Рождение отца и Ани. Даты рождения (00:42:41 – 00:51:29)
[Как интересно. Да, я даже такого не представляла себе про Москву.]
Вот, и более того, у нас была соседка тетя Паша, как раз жила с нами на одной лестничной клетке. Вот она была из Орловской области. Я, к сожалению, не знаю, из какой деревни, потому что она тоже умерла, когда я была маленькая. А то бы я ее расспросила. Ну вот, и тетя Паша рассказывала, как они катались на ледяных горах, и как они в сарафанах ходили без штанов, и как вот… если сарафан завернется, то, значит, голой попой по льду, и как это вот неприятно.
[А где эти были ледовые горки?]
У них в Орле. То есть она рассказывала про свое деревенское детство. В Орловской области. Бабушка из детства рассказывала про то, что они ходили на Люблинский пруд купаться. Поскольку тогда не было этих самых… всяких там резиновых кругов, или, во всяком случае, у них этих резиновых кругов не было, то они плавали на наволочках. И она говорила…
[На наволочках?]
Да. И она говорит, что самое сложное – это было у мамы выпросить наволочку. Потому что жалко же, их нету. И вот наволочку мочишь, потом разматываешь вот так над головой, чтоб она надувалась, потом концы закручиваешь и вот так под себя подбираешь и вот так вот плывешь. На наволочке. Недолго, но плывешь.
[Класс, такого тоже не слышала.]
Еще они… Ну вот из детских забав, потому что… Ну я так начала, что всё так трагично. Всё действительно трагично, но, что называется, и хорошее тоже было. Вот, сейчас про хорошее. Значит, эти все воспоминания относятся, конечно, к довоенному времени. Бабушка рассказывала, что они любили ходить по карнизам. То есть там у дома были такие довольно широкие карнизы, и чтобы перейти из квартиры в квартиру, нужно было пройти по карнизу. Ну им там лень было выходить через подъезд, они по карнизу вот это делали. Потом она рассказывала про какие-то дворовые игры, я их, к сожалению, не помню. Я понимаю, какой должен быть следующий вопрос – а какие? Я не помню, какие. Но во что-то такое они играли. Еще она рассказывала вот из своей такой предвоенной молодости, правда, не знаю, к какому…
[А не было, прости, игр, где упоминался бы Ленин?]
Чего?
[А не было ли какой-нибудь игры, где бы упоминался Ленин?]
Нет.
[Такого не рассказывала?]
Нет, нет. У бабушки вот из того времени было только «честное ленинское». То есть она меня когда спрашивала, ну вот там ты сделаешь что-то, я говорила «честно». Она говорила: «Честно-честно?» «Честно-честно». Она говорила: «Ленинское даешь?»
[Это как бы более высокая стадия?]
Да, да. То есть даже, что называется, пионерское не канало, надо было ленинское давать. И она мне тоже давала «честное ленинское» [смеется]. «Наташ, ленинское даешь?!» Еще она мне в детстве в качестве сказок на ночь рассказывала про разведчика Карацупу. Я так думаю, что это было какое-то популярное детское чтение в те времена, когда она была маленькой. Еще она много рассказывала, как они ездили в Москву в кино. В Москву – это надо было сесть в Люблино, приехать на Курский вокзал и там уже от Курского вокзала идти куда-то в кинематограф.
[Она говорила «в кинематограф»?]
Нет, она говорила «в кино». В кино. Кинематограф — это мое. Еще она, как ни странно, до войны каким-то образом бывала во МХАТе. Потому что она любила рассказывать про довоенный МХАТ, она говорила: «Ну вот ты же помнишь…» Потом, когда произошел инсульт, для нее прошлое стало гораздо ближе, чем настоящее. Она меня периодически спрашивала, помню ли я МХАТ в [19]36-м году. Я говорила, что да, конечно, помню, как не помнить такое. Ну то есть, это вот… [19]36-й это я, пожалуй, загнула, это скорее вот предвоенное там, послевоенное. То есть всё-таки, когда была еще такая молодость без детей.
Еще моя бабушка играла в баскетбол за трудовые резервы. Вот в команде. И еще ее отбирали для парадов вот этих физкультурных. И что я могу сказать, что их собирали в Сокольники на репетиции, вот. И она пошла, потому что она была красивая и потому что…
[И высокая, наверно?]
Нет, она не была высокой, но в те времена высоких девушек не было. Хотя странно, она играла в волейбол. Наверно, среди ровесниц она была высокой довольно. Я ее не помню, что она высокая была. Может быть, для того времени она была высокой девушкой. В общем, она была очень красивой, фигуристой, она вот как-то вот эту вот свою красоту очень ценила. И она говорила, что вот там давали такую красивую белую форму. Но там нужно было, говорит, ходить вот так вот грудь вперед и руками махать. А я так, говорит, стеснялась руками махать, меня за это отчислили, и я на парад не пошла. А так вот всегда, когда там фильмы «Цирк», ну или просто вот показывали хронику, вот эти все там девушки в белом так маршируют, она говорила – вот, говорит, меня тоже для парада отбирали, но я не пошла.
[Потом, значит, война закончилась, потом, значит… В каком возрасте примерно она вышла замуж за твоего папу?]
Деда. Ну примерно двадцать один – двадцать два. Как-то так.
[А у них была свадьба, или они просто съехались?]
У них была свадьба, но… у них была роспись в ЗАГСе. Роспись в ЗАГСе – это мой термин. Они это вообще никак не называли, ни «свадьба», ни «съехались». Они называли «поженились». Там был какой-то праздничный стол и всё. То есть каких-то таких развернутых деревенских или еще каких-то ритуалов — ничего такого не было. После этого у нее родилось две девочки, Валя и Галя. Примерно в [19]47-м или [19]48-м году. Но они, к сожалению, умерли.
[О, боже.]
Да. Бабушка говорила, что они умерли, и они похоронены на Люблинском кладбище. И мой папа помнит, как они в детстве, в его детстве там, ездили к ним. И как бабушка говорила ему: «Осторожно, по могилкам не прыгай». Вот. Но надо сказать, что я почти случайно об этом узнала. То есть какого-то такого культа этих детей или частого упоминания…
[А от чего они умерли?]
Бабушка не смогла их выкормить.
[Они были двойняшки или…?]
Они были двойня… ну я не знаю, были ли они однояйцевыми близнецами, но они родились одновременно. Но они были не очень здо… как бы это сказать, сильные дети, и после войны не очень было сильное питание. Бабушка не смогла их выкормить, и они умерли. Ну там, наверное, был какой-нибудь там медицинский диагноз специальный, но по факту это было так. А потом у нее в [19]51-м году родился мой папа, а в [19]55-м году родилась его родная сестра, тоже Аня. Кстати вот, Аню назвали в честь той самой тети Нюры, которая глава семейства. Что лишний раз подтверждает о том, что это была величина, а то бы девочку просто так Аней не назвали. Но примечательно, что вот та была Нюра, а вот эта вот уже Аня. То есть, Нюра такая деревенская, Аня уже городская. Вот. И дело в том, что официально мой папа и Аня – они записаны 4 августа. Но я думаю, что бабушка привра… ну тоже вот такое своеобразное близнечество получается, что вот типа они родились в один день. На самом деле, я думаю, что бабушка приврала и переписала Аню [на] 4 августа для того, чтобы праздновать день рождения в один день.
[А у них какая была разница в возрасте?]
Четыре года ровно.
[То есть особого значения точности дня рождения не придавали, да?]
Ну так говорили – о, как интересно, вот там вот, и через четыре года, и родились в один день. Но поскольку у моей мамы, например, три сестры, и три сестры все родились ровно через три года, мне почему-то казалось это естественным, что вот есть какая-то такая четкость, магичность в этих цифрах. Но вот сейчас уже, с позиции взрослого человека анализируя вот это все, ну представь себе, праздновать два детских дня рождения – это всё-таки никакой зарплаты по тем временам не хватит.
Празднование дней рождений. Детские развлечения. Дом культуры имени Третьего Интернационала. Очередь на мультики. Детские компании. Драки между домами. «Кузя». Аня, Вовик и Ленуха. Обстановка после войны. Подработки бабушки. Шитье. Донос на «нетрудовые доходы». Переезд, празднование (00:51:29 – 01:03:13)
[А праздновали дни рождения тогда?]
Да. Да, праздновали. Но это были не такие дни рождения в нашем понимании смысла слова, ну, когда там зовут всяких детей и так далее, и так далее. Нет, праздновали дома и дарили подарок. Какой подарок не знаю. Из детских развлечений, о которых вспоминает мой папа, это они ездили с мамой в Москву. Причем всё время с мамой, папа там вообще не упоминается, я уж не знаю, по каким причинам. Вот. Они ездили в Москву, и в Москве они ходили в зоопарк, они ходили в кино, и они ходили в кафе-мороженое или просто в кафе. Там бабушка покупала им мороженое, пирожные, и это всех, конечно, очень радовало.
[Это в день рождения?]
Нет, не обязательно в день рождения. Вообще. Ну то есть именно такой детский интертеймент. То есть, вот если говорить об этом, то у папы… Ну такие вот яркие воспоминания – это как они с мамой ездили в Москву, там куда-нибудь. Говорит, нас мама везде-везде водила, и в театр, и в кино. И в кафе-мороженое вот это вот! Кафе-мороженое – это обязательно.
И еще он рассказывает вот из таких местных развлечений, у нас действительно есть Дом культуры имени Третьего интернационала. Это памятник культуры конструктивизма, о нем мало кто знает. Но это, к сожалению, такой заброшенный современный памятник культуры, очень жаль, потому что он разрушается, плюс там всякие пристройки. Но я его помню еще действующим, я сама туда ходила на мультфильмы в детстве и на елку. От папиного тогдашнего дома, как раз пятьдесят девятого, там буквально… ну сколько? Квартал. Ну полтора квартала. В общем, это близко. Вот он говорит, на мультфильмы мы занимали очередь. Вот кто-нибудь стоит в очереди… и в очереди мы стояли по очереди. Вот ты с утра встал, вышел, в очередь встал. Потом следующий пришел, ты ему говоришь «держи очередь», и ты идешь домой завтракать. Говорит, а потом я шел домой, ел бутерброд с маслом, пил чай и возвращался в очередь. Для того чтобы достояться и попасть на вот это вот как-то… «Бутерброд с маслом, и потом я обратно шел стоять в очередь».
[Боже мой, сколько же они стояли?]
Вот я сама…
[Это получается конец [19]50-х? Он родился в [19]51-м?]
Если он родился в [19]51-м, нет, ему могло быть лет пять свободно.
[Середина?]
Середина, да. Потому что он рассказывает, что в те времена… Что ему вот нравится рассказывать, что вот была такая большая толпа детей, там типа от четырех до пятнадцати, и вот они ходили все вместе. И все смотрели, там за младшими, имеется в виду. Если там кого-то били, то там весь двор прибегал бить. А дело в том, что там два дома, вот наш пятьдесят девятый, он стоит буквой «Г», и там есть еще один дом, который стоит по Мариупольской, если я не ошибаюсь, улице. Но я потом точно пришлю, как это называется. Или Кубанская она. Ну, вот. Вот, значит, наш дом и их дом. Разумеется, там весь двор поделен на сектора, там кто с кем дружит, кто с кем дерется. И вот там если из того дома били кого-то из нашего дома, то всем надо было бежать и ввязываться в драку. И там вот там… помню, только крикнут «Кузю бьют!» А папа был Кузя, несмотря на то, что он Володя. Владимир Николаевич Ральцев. У него было детское прозвище «Кузя», потому что мама его была Кузякина в девичестве. Соответственно, все обитатели этого дома ее помнили как Кузякину, и его звали Кузей.
[Очень деревенская штука.]
Наверное. Вот. И…
[А ни у кого другого не было прозвища по матери?]
Нет. Нет. Нет.
[А отец наличествовал папы?]
Да. Да.
[И в те времена, когда его звали?]
А я думаю, что дело в том, что дедушка, за которого вышла замуж моя бабушка, он жил в Печатниках. В бараках. То есть та вся семья жила в так называемых бараках.
[Железнодорожные, да?]
Железнодорожные, да. И когда они поженились, у меня такое впечатление, что… не впечатление, это натурально так было, он переехал к бабушке. То есть их мужья, и бабушкин, и Марусин, они пришли в их дом. И я думаю, поэтому ну как бы… В глазах жителей дома…
[Детей называли по матери?]
Детей называли по матери.
[Бинго! Да, прям как…]
То есть тут такой был территориальный признак. Если бы они там переехали в Печатники, то были бы там… не знаю. Ну, в общем, не Кузя точно.
[То есть, получается, что твой дедушка жил в квартире твоей бабушки?]
Да, дедушка жил в квартире моей бабушки.
[А что случилось с Марусей?]
А они все жили… У них сначала была одна большая комната, а потом у них стало две маленьких комнаты.
[Перегородили?]
Да, перегородили, потому что Маруся тоже вышла замуж. У бабушки сначала родились Валя и Галя, потом Вовик. Папу в детстве звали «Вовик», и бабушка его до смерти своей тоже звала «Вовик». Аню она звала «Аня». А у Маруси… сестра была «Ленуха». Вот я не помню, чтобы еще где-то вот так Елену звали. Ой, не сестра, а дочка была Ленуха. Вот Аня, Вовик и Ленуха. Вот трое детей там было в одной комнате. Там они там тоже дружили. Ходили во двор. Но про девочек… Девочки, кстати…
[А Маруся не жива?]
Маруся умерла, к сожалению, тоже. Сравнительно недавно.
[Понятно. Значит, они жили все в одной комнате?]
Да. Они жили все в одной комнате с перегородкой. И вот мы просто бросили тему, как там внутри дома всё было. Вот во время войны не было там… во всяком случае, бабушка не рассказывает там ни о каком там мародерстве и притеснениях, и прочих преступлениях. А вот после войны она рассказывает, что… Мне кажется, это связано с тем, что люди начали возвращаться из зон в том числе. Потому что она сказала, что вот… ну это я сейчас могу так сформулировать, я не помню, какими точно словами она об этом говорила, но обстановка изменилась. Приходили люди. Вот. И говорит, какая-то соседка такая была, очень нахальная. И вот она не давала ей готовить и вот так вот клала руку на конфорку. Бабушка ей говорит: «Убери руку». Она говорит: «А что ты мне сделаешь?» И бабушка тогда повернула конфорку, подожгла… и подожгла ей руку. И она за это стала ее уважать. А то она ее всё притесняла, тиранила. Бабушку надо было крепко довести, чтобы она так сделала. То есть права свои отстаивать всё-таки приходилось, и бабушка умела это делать. Я помню, кто-то чего-то ей такое, начал жаловаться на папу, дескать, он озорник. Не больше, чем другие дети, прямо скажем. Бабушка… Я, говорит, Вовика вот так взяла за шиворот, а в другую руку взяла нож. И сказала: «Вот я сейчас прям при тебе его убью». И соседка после этого отстала от нее.
[А после того, как она родила двух детей, она как бы работала где?]
У меня такое впечатление, что она периодически где-то подрабатывала. Потому что вот четкая работа – это война, во время войны и немножко после войны. А после этого там периодически говорится о том, что она работала, но у меня такое впечатление, что это было уже какими-то урывками. Когда я родилась, бабушка вышла на пенсию. Для того чтобы сидеть со мной в том числе, потому что я была очень болезненным ребенком. И я можно сказать, что до шести лет как раз прожила с бабушкой. Потому что моя мама была студенткой и, конечно, ей было проще, если бы я жила с бабушкой. И после этого, ну уже в советские годы, она работала уборщицей периодически. А так она работала, по-моему, на автобазе бухгалтером каких-то… Потом она еще работала в пионерском лагере этим… шеф-поваром. Но это всё какая-то вот непостоянная такая работа, такая «вспыхивающая». Из регулярных ее доходов – это было как раз частное шитье. Нельзя сказать, что она была прям профессиональной портнихой, но она шила…
[А где она училась?]
Она ходила на курсы кройки и шитья. И она как раз…
[После войны?]
После войны. Да. И она как раз говорила, что ее ругали… Она меня поругивала за то, что мне было лень всегда вытягивать короткую нитку по-человечески, я всегда метра три отматываю, вот, говорит, меня, говорит, вот за то же самое на курсах кройки и шитья ругали. Говорили вот: «длинная нитка – ленивые швеи». Вот, говорит, мы с тобой обе такие ленивые швеи. Но она меня не ругала. Она просто так… смеялась надо мной. И бабушка действительно очень хорошо шила. И у меня много детских вещей, мною шитых. Более того, когда я была маленькая, у нее уже была взрослая дочь Аня. Она ей тоже шила всякие модные вещи. И к ней приходили клиентки, она с них снимала мерку. И как-то раз на нее кто-то стукнул. Там за ее какие-то нетрудовые доходы.
[Это в какие года примерно было?]
Сейчас скажу. Ну где-то от [19]58-го до [19]62-го года. То есть, дети были уже школьники, но всё-таки маленькие. И насколько я понимаю, бабушке не особо хотелось идти на работу. То есть, если можно было подработать таким образом, то, собственно, с этого она и жила. И вот, говорит, пришел ко мне участковый, там, дескать, Валя, поступил сигнал, что ты шьешь. Она говорит да, говорит, Вове трусы шью. И Ане трусы шью. Ну после этого участковый как-то слился. То есть всё-таки… ну как-то это по-человечески было. Наверняка участковый знал о том, что не только Вове и Ане она шьет трусы, ну или еще что-то другое, но вот никто не начал там на нее кидаться, там как-то пытаться это всё доказать. Но, тем не менее, вот пытались на нее донести таким вот образом.
[То есть они прожили в этой коммунальной квартире до того, как была построена хрущевка?]
Да, абсолютно верно.
[А построили где-то в [19]60-е годы?]
Да. Они… так. Нет, если в [19]62-м они переехали, значит, вот тот эпизод, о котором я рассказываю, он где-то как раз между [19]56-м и… [19]60-м годом. То есть. Потому что он совершенно точно относится еще к той квартире в пятьдесят девятом доме. Вот. Они переехали, это был большой праздник, у нас есть до сих пор фотография того как раз переезда, этого праздничного застолья. Они начали жить там.
[А переезд как-то отмечался таким…?]
Ну да. Там как раз и Аня, и Вовик, все такие вот с рюмками. Счастливые. Ну они маленькие, конечно, еще тогда. Но вот дети не то чтобы пьют спиртное, но дети символически поднимают рюмки. Что называется, вот это есть.
Реновация. Рынок Москва, рынок Садовод. Смена контингента. Общение с соседями. Пироги. Столы во дворе. Отсутствие двора. Пивнушка. «Алкашный». Украденная девочка. Путь в библиотеку. Преступник Фишер. Черный татарин. Мамадыш. Противостояние русских и татар. Гроб на колесиках (01:03:14 – 01:13:40)
[Интересно, у вас хрущевки не попали в программу реновации?]
Попали. Попали. Но я уже не жила там к тому времени.
[А сейчас там народ не бастует?]
Бастует.
[Пытается сохранить?]
Ну там дело в том, что мнения резко разделились. Кто-то хочет остаться, кто-то хочет переехать. И вот мне как раз звонила соседка о том, что вот, дескать, там как-то повлияйте. Я говорила: «На что я могу влиять, когда я эту квартиру продала своему брату?» Ну у нас была долевая собственность, и я ему продала его долю для того, чтобы вся была у него. А брат за реновацию, ну у него для этого есть свои причины.
[Просто я записывала интервью: многие жители, которые строили, вселялись в эти хрущевки, там, например, на Преображенке, где там тоже была деревня, они тоже рассказывали, как сажали деревья…]
А вот я как раз…
[… как им жалко эти деревья.]
Я как раз живу сейчас на Преображенке, и когда я опаздываю на работу, то я иду дворами. Я живу на 2-й Пугачёвской, мне вот как раз нужно пройти через вот эти все панельные хрущевки, которые там стоят. И вот меня всякий раз поражает, там такая есть яблоня прям полноценная. То есть, если вот у меня уже рос такой дичок, то там такие вот здоровые яблоки, мне так их жалко! Когда они…
[Как раз я там записывала интервью, как раз у людей, которые высаживали эти яблони в [19]60-м году как раз.]
Ну понятно. Но дело в том, что у нас… во всяком случае, на нашей лестничной клетке, сохранилось всего две семьи, вот до момента, как я продала эту квартиру и уехала оттуда. Всего две семьи, которые вот именно такие коренные люблинцы, которые весь дом знали, кто где живет. А в основном у нас там поскольку… у нас очень сильно изменилась обстановка. И я могу сказать, что Люблино – оно разрушилось с появлением рынка Москва.
[А что за рынок «Москва»?]
А это такой… Во времена, когда был Черкизон, это можно было сравнить с Черкизоном. А плюс у нас еще сейчас там рынок Садовод. И вот все эти люди, которые работают на этих рынках, они туда буквально хлынули, и я бы сказала, что у нас там теперь скорее пригород Душанбе или там, скажем, Ташкента. Но это уже совсем не Люблино, потому что у нас там очень резко изменился контингент. И у нас там, в основном, живут как раз представители восточной диаспоры сейчас в моем доме.
[А вот раньше, например, соседи как-то там общались?]
Да, да. Было принято общаться, было принято сидеть во дворе.
[Кстати, а хрущевка была двухкомнатная?]
Да, двухкомнатная. Было принято общаться, было принято сидеть во дворе. Вот во всяком случае всех соседей по периметру мы знали. Сверху, снизу, по бокам, на своей лестничной клетке, там и по фамилиям, и вот в семейных разговорах там всплывали какие-то… Вот у нас дружественная семья, мы до сих пор с ней дружим, моя мама, хотя живем в другом месте, она всё равно созванивается вот с этой соседкой, которая на нашей лестничной клетке. А когда я была маленькой, то было принято как-то даже общаться между соседями там, в гости ходить. Мы особо не ходили, но так очень… дружественно раскланивались, я бы так сказала.
[А шашлыки вместе делали, что-нибудь такое?]
Нет, у нас шашлыков вообще не было принято. У нас праздничное блюдо было пироги. То есть, шашлыки – это какое-то такое совершенно позднее напластование. И моя бабушка тоже всегда пекла пироги. Вот… никогда не помню никаких шашлыков. То есть праздник – это когда пекут пироги.
[А вот такое было, чтобы пироги выносили, как-то раздавали?]
Нет. У нас такого не было. Но я такое застала. Я совершенно поразилась. Одна моя однокурсница, которая живет в Графском переулке, жила точнее. Это на Алексеевском. Я к ней как-то раз приехала в гости уже в зрелые годы, нам уже было за тридцать. По-моему, тридцативосьмилетие, что ли, мы такое праздновали. Она натурально накрывала стол во дворе. Я вот просто офигела. У нее так называемый немецкий дом трехэтажный. Вот который строили пленные немцы, но на самом деле это советский проект. Вот, и вот она во дворе этого дома накрывала столы, и вот как раз выходили какие-то соседи ее поздравлять и так далее, и так далее. Но у нас, поскольку дворы были, как это сказать…
[Проходные?]
Ну не совсем проходные. Но вот они вот как сейчас хрущевки строятся так параллельно, параллельно, параллельно, и как бы у тебя есть двор, но вместе с тем у тебя его нет. То есть у нас, например, даже не было во дворе детской компании, и я ходила гулять в двор напротив. А вот напротив были дома… я не могу сказать, довоенной ли они постройки, потому что они сейчас снесены. Но напротив был нормальный двор. То есть, который был построен вот таким вот колодцем, плюс там еще в середине был один дом. То есть это такое замкнутое пространство, тоже поделенное на сектора. То есть там вот жили такие-то, там вот жили такие-то, там жило половина моей школы, поэтому я туда ходила играть, гулять и всё такое.
[И считалось, это безопасно?]
А тогда, честно говоря, вообще никто о безопасности… Ну то есть вот нас учили обходить опасные места. Опасное место у нас была пивнушка так называемая, сейчас на этом месте продуктовый магазин. Потом примерно в [19]86-м году, когда как раз началась война с пьянством, вот этот сухой закон и всё такое, ее закрыли. Там открыли овощной магазин, но она по-старому называлась всё равно пивнушка. И вот тоже такой памятник советского пьянства, так называемый Пятидесятый гастроном. Официально он «Пятидесятый», то есть, по-хорошему он назывался «Полтинник», а по-плохому он назывался «Алкашный». И то есть вот, я даже в детстве себе не представляла, что такое «алкашный». Но там мама говорит: «Ну сходи за хлебом в «Алкашный». Ну я знаю, где он. А что «Алкашный» – это, оказывается, алкаши, я только потом узнала. В общем, надо было не ходить мимо этой пивнушки, потому что вот возле пивнушки рассказывали, что украли девочку. Нас это пугало до такой степени, что…
[Это вам рассказывали?]
Нам рассказывали, да. Нет, ну я об этом узнала от детей. То есть моя подруга сказала, что: «Ты осторожно!» А там дело в том, что там как раз через эту пивнушку шла дорога в детскую библиотеку. А я была большой ходок в детскую библиотеку. И мне моя подруга Юля Чурсина говорит: «Вот ты, – говорит, – мимо пивнушки не ходи. Там недавно девочку украли!» И вот я прям переходила на другую сторону, проходила. Потом для того, чтобы дойти до библиотеки, мне надо было обратно перейти. И в общем, я действительно так…
[А какие-нибудь подробности про украденную девочку рассказывали?]
Нет, в этом месте делали только такое страшное лицо и всё. То есть ни про какое сексуальное насилие, ничего такого нам не рассказывали. То есть, например, для меня была загадка, зачем украли девочку? Ну то есть это просто само по себе страшно, когда тебя кто-то крадет. И у нас еще, например, были рассказы про такого преступника Фишера, я не знаю, существовал ли он или нет, но вот говорили, что есть такой Фишер. И вот надо его бояться. Именно девочкам.
[А что он делает?]
А вот этого никто не говорил. В этом месте опять все делают вот такие вот большие глаза. Дескать, сама обо всём должна догадаться.
[А мама или бабушка не рассказывали про «черную машину»?]
Нет.
[Которая ворует детей?]
Нет, нет. Нет, у меня была прогрессивная, слава тебе, господи, семья, у меня там не было никаких черных татаринов…
[А какой черный татарин?]
Черный татарин – это из репертуара уже Поволжья. Это там, где родилась моя мама. Моя мама родилась в Татарстане. В городе Мамадыше. А папа ее привез из Казани в Москву. И когда моего брата… Если я жила с московской бабушкой, то мой брат жил как раз некоторое время с мамадышской бабушкой. И вот он оттуда приехал, он говорит – вот, там, туда ходить нельзя. Я говорю: «А почему нельзя?» «Цолный татарин украдет!» [имитирует детскую речь] Ну черный татарин, как я могу предположить… Дело в том, что когда родилась я, там было очень четкое противостояние между русскими и татарами. Вот я сейчас замужем за татарином и фамилия у меня татарская. И вот я думаю, если бы та семья была жива, она бы крепко удивилась, а возможно и не обрадовалась бы этому браку. Совсем. Потому что еще в те времена, когда я была девочкой, не было принято выходить замуж за татар. Ну выходили, конечно, это был явный такой мезальянс. И вот считалось, что татары плохие. То есть ну вот некоторые из них – они хорошие. Как правило, это ближний круг. И у моих там теть, у всех родственниц там были татарские подруги. Кстати, у моего деда… Нет, ну поскольку мой дед был учитель, волей-неволей у него были друзья-татары. Ему приходилось как-то включаться в это сообщество. Ну, если ты был… Вообще, не очень было принято, и я думаю, что исходя из этого плохой персонаж, он кто? Он татарин. То есть не просто черный дед. А вот черный татарин. Но это пугалка для русских детей. Какими пугалками татарских детей пугают – не знаю просто.
Ну вот, ни про какие черные машины, ничего такого не рассказывали. И вообще старались не запугивать. То есть я не помню там, чтобы отчетливо в назидательных целях рассказывали какие-то такие истории. Страшные истории появились скорее, когда я пошла в школу, когда там начали рассказывать про девочек: «девочка едет, гроб на колёсиках», там тоже про черные машины. Вот черные машины – это что-то… А, это вариация про гроб на колесиках. То есть одни рассказывали, что вот едет гроб на колесиках, а другие рассказывали, что едет черная машина.
Случай в электричке. Репрессии. Учебники. Крушение на железной дороге. Билет на баскетбол. Люблинский парк. Лимонад и песочное кольцо. Финские бумажные стаканчики. Ирония отца. Политические разговоры. Учеба отца. Лагерь Восход. Физики-ядерщики. Инакомыслие. Работа отца. Рассказ про облитых рабочих (01:13:41 – 00:25:20)
[А бабушка про машину Берии черную не рассказывала?]
Бабушка рассказывала только про то, как они однажды ехали в электричке, и, говорит, мы что-то такое смеялись, я, говорит, даже не помню, о чем мы говорили. И тут встает дядька, так смотрит на нас и говорит: «Ваше счастье, что вы слишком молоды!» Я очень четко воспроизвожу интонацию, бабушка именно так всегда говорила. И выходит. И мы, говорит, так испугались. Потому что мы подумали, что сейчас что-то вот такое вот сказали. И он на нас донесет.
[А это было после войны, да?]
Нет, это было перед войной, это были как раз предвоенные баскетбольные годы, то есть я могу предположить там [19]38-й, что-то так вот.
[То есть, когда еще родители были живы ее?]
Да, когда родители еще были живы. Ну то есть, если она с девочками едет куда-то в электричке, то это явно еще все в порядке и родители живы, да.
[А что она рассказала, она не…?]
Она говорит: «Мы так испугались, что даже забыли, о чем мы говорили». И, говорит, я до сих пор не могу понять, что такого мы могли сказать. Ну говорила, конечно, уже. Что мы такого могли сказать, за что вот нас… могли там что-то сделать с нами.
[А кстати, а про репрессии она не рассказывала?]
Вот про репрессии она рассказывала то, что заставляли в учебниках вырывать страницы или зачеркивать. Ну там вот, где фотографии. Вот в учебнике истории, говорит, что ни день, всё надо… то зачеркивать что-то, то вырывать. Хуже всего было на экзаменах, потому что не знаешь, про что рассказывать, про что не рассказывать. То есть, как правильно, как неправильно. И вот про репрессии она как раз говорила, что приходишь в школу, а у половины девочек отцов нет. Ну вот после вот этого крушения на железной дороге. А потом приходишь в школу, а уже и девочек некоторых тоже нет. Но таких вот развернутых рассказов нет.
[А про врагов народа она что-нибудь рассказывала?]
Нет. Такого не было.
[А не рассказывала какие-то истории с первыми автоматами с газированной водой? Как они появились в Москве в [19]50-е годы?]
Нет. Нет, такого не было. Я скорее могу рассказать историю про финские бумажные стаканчики.
[О! Какая история?]
Сейчас расскажу. Лето я проводила всегда как раз у бабушки в Мамадыше. А тот [19]80-й год я помню очень хорошо, потому что папа сохранил билеты на баскетбол. И билеты на баскетбол – они были отпечатаны на такой бумаге, как вот сейчас… точнее, в те времена самолетные билеты печатались. То есть она такая была серая, с перфорацией, меня так удивило. Ну обычные советские билеты что такое – штампик десять копеек, а тут прям такое. Билет-разбилет, очень красивый билет был. Я говорю: что… Это, говорит, билет на Олимпиаду, вот ходил на баскетбол. Я ему еще пожаловалась так – вот, говорю, ты меня не взял. Он говорит – вот, ты же была в Мамадыше. Я говорю – ты меня специально не взял! Говорит – ну, не взял, не взял, давай пойдем погуляем. И мы пошли гулять. Как раз у нас было два парка для гуляния: один Кузьминки, а другой ЦПКиО имени Горького, но Люблинский.
[А как его называли местные?]
Люблинский парк. Этот был парк Кузьминки, а это был Люблинский парк. Там, «пойдем в Люблинский парк». Мы, дети, его называли «парк с аттракционами», потому что это действительно был единственный парк с аттракционами. Их там было много. Вот. И, значит, пошли мы в этот парк с аттракционами, а там вот… это редко было в те времена, а там был такой вот прям стационарный буфет в этом парке, и мы всегда заходили, и мне покупали лимонад и песочное кольцо с орешками за пятнадцать копеек. И я еще помню, что это кольцо, оно всегда пахло вот этой бумагой, в которую его заворачивали. Тебе же с собой такой обрывок бумаги давали. Ну вот. И мы приходим, и мне папа покупает тоже лимонад, а лимонад разливается не в обычный стаканчик, а такой, я помню, красный клетчатый стаканчик, и у него еще так вот сбоку от, это самое, отгибаются…
[Ручки.]
…ручки, и его можно так вот в руках держать. Меня это просто заворожило. Я говорю – папа, говорю, а откуда такой стаканчик? Он говорит – стаканчик из Финляндии. А почему, говорю, у нас появились финские стаканчики? И папа, диссидент, Буковский, говорит: «А это специально такие стаканчики завезли, чтобы все думали, что вот, мы хорошо живем! Что у нас всё есть!»
[То есть, он это как бы с иронией сказал?]
Да, папа, он очень был ироничный человек. Он и есть, собственно, ироничный человек. Мы сейчас говорим, скажем так, о том молодом папе. И мой папа, он старался, чтобы я не была такой уж совсем советской девочкой. Он всегда старался со мной вести какие-то такие политические беседы. И когда я ему задавала какие-то вопросы, он меня всегда просил закрыть дверь в прихожую. И он говорил: «Вот мы сейчас с тобой об этом поговорим, но в школе об этом рассказывать не надо».
[Класс. А когда завезли? Получается, это сразу после Олимпиады где-то?]
Это прям во время Олимпиады, потому что Олимпиада была летом [19]80-го года, я могу предположить, что эти стаканчики — они остались ну как бы после Олимпиады. Ну, когда я приехала? В августе. Олимпиада в июле была, если я не ошибаюсь. Ну то есть это прям сразу после Олимпиады было. Вот, и это было действительно запоминающимся событием.
[А можно я спрошу тогда интересный вопрос? Получается, что твоя бабушка – она такая была вот… и дедушка. Дедушка работал на железной дороге. Бабушка тоже, в общем, не была диссиденткой. Как папа вырос диссидентом?]
Хороший вопрос. Мой папа был стихийным диссидентом. Потому что, что такое диссидентура в классическом смысле слова, то есть там Хельсинкская группа, там дело Синявского и Даниэля – я об этом обо всём узнала только в университете. Когда я пошла учиться, там начала читать книжки, всё такое прочее. А до этого я ничего знать не знала. Я знала, что есть такие разговоры, за которые посадят. И поэтому не надо… говорить об этом с кем не попадя.
[А откуда всё это папа как бы вот? Из института?]
Нет. Дело в том, что мой папа не закончил институт. И он был инженером, но… я могу предположить, что…
[А в каком он учился?]
В энергетическом институте. Но он проучился всего три курса, и он пошёл учиться уже, когда я была такая сравнительно большая. В первом классе. Официальная версия – что он его не закончил из-за слабого здоровья. Ну, потому что он действительно часто болел. Почему на самом деле он его не закончил, этого я не знаю. Я могу предположить следующее. Что, во-первых, он был в пионерских лагерях, где вожатыми были физики-ядерщики. То есть был такой пионерский лагерь «Восход», он просуществовал вплоть до моего детства. Пионерский лагерь «Восход» – это Подольский район. И я не знаю, откуда там были эти физики-ядерщики, но папа всегда, когда смотрел фильм «9 дней одного года», он говорил – вот, вот, вот эти все люди были моими этими… пионервожатыми. Потому что их туда отправляли после облучения на этих всяких реакторах, там подправить здоровье, там всегда кормили черной икрой, и вообще там много было еды всякой такой экзотической. И он говорит, они там и бардов пели, и на гитарах играли. Я говорю – я-то вообще ничего такого не видела.
[Это какие примерно годы?]
Это очень легко сказать, это [19]62-й, [19]63-й, [19]65-й годы.
[А этот пионерский лагерь Восход – он где был?]
Подольский район.
[Интересно.]
Вот… И…. И-и-и-и… И я так предполагаю, что какие-то основы инакомыслия, ну то, что, во всяком случае, может быть и по-другому, то есть, наверно, были заложены там. А потом мой папа – он же занимался обслуживанием компьютеров. То есть тогда, когда это были еще ЭВМ огромные.
[В каком-то НИИ?]
Нет, вот дело в том, что он работал как раз, как я сейчас могу это представить, в каком-то таком бюро по обслуживанию как раз этих НИИ. Потому что у него работа была каждый раз в разном месте. А у него были Базальт, Сапфир, Восход, Юго-запад, а насколько я знаю, это всё закрытые военные заводы. И он как раз обслуживал вот эти все закрытые военные заводы, вот эти все вычислительные машины. Ну, я думаю, он там тоже что-то нацеплял. Ну, потому что там были вокруг такие… образованные, прямо скажем, инженеры. Он там с ними знался.
[А когда же это было? То есть, получается…]
Я родилась в [19]75 году. В школу я пошла в [19]82-м году. И… ну вот, все события, о которых я говорю, они относятся, с папой связанные, [19]82 — [19]87 год. Ну, такие вот условно-диссидентские беседы.
[А что же такого он тебе говорил, что просил дверь закрывать?]
Вот я не помню уже сейчас, что, но я помню, что мы обсуждали какие-то политические новости. Вот я не помню… Один разговор я помню точно. Это я училась в третьем классе. И тогда был… мы проходили по чтению, я училась во вторую смену, по чтению мы проходили какой-то рассказ про то, что рабочим не платили зарплату, они пришли на демонстрацию, это было в Петербурге, и их на морозе, значит, начали поливать водой. А надо было пересказать, и я ходила вот учила этот пересказ. Что вот «одежда лубенела на ветру». Он говорит – да, говорит, про что же ты рассказываешь, что у тебя такое? Я говорю – вот, говорю, там людям зарплату не платят, вот они вышли на демонстрацию. Вот, значит, и одежда у них лубенеет на ветру. Он говорит – да, говорит, а вот мне уже который месяц зарплату не платят. У меня там, дескать, что-то не лубенеет на ветру одежда. И на демонстрацию я не хожу. Ну вот меня это как-то вот поразило. А ты знаешь, что, говорит, не только там, вот вообще многим зарплату не платят, вот задерживают? Я там, а почему же люди не выходят на демонстрации, говорю, как это вот вообще может быть в нашем советском государстве? Я уж не помню, что конкретно он мне рассказывал. Вот. Но разговоры такие были.
Сестра отца. Демонстрации. Сталин. Сорокалетие Победы. «Бытовые» истории бабушки. Инвалиды на мосту. Баня. Татарская диаспора. Мишари. Дом культуры имени Третьего Интернационала. «Ленин беседует со Сталиным в Горках». Названия магазинов (01:25:22 – 01:34:18)
[Класс. Ты ешь свой круассан, потому что я тебе отрываю от круассана и чувствую себя виноватой.]
Ничего страшного, я потом съем. Всё отлично.
[Интересно как. А у папиной сестры были какие-то такие диссидентские идеи?]
Не-а. Папина сестра – она говорила, вот всегда, когда мы с ней говорили, она говорила: «Ты очень похожа на своего отца». Именно поэтому, говорит, вы всегда ругаетесь. Именно поэтому… ну не то, что терпеть друг друга не можете, это неправда, но у нас действительно довольно сложные отношения. Сейчас они стали гораздо более ровные. Всё-таки, я думаю, я с годами поумнела [смеется]. А так он просто был очень горячий, взрывной человек, и действительно с ним было сложно в каких-то ровных отношениях состоять. Вот, а она… Я помню, что-то ей рассказывала такое… Ну мне было, наверное, лет тридцать. Она говорит: «Слушай, Наташа, я тебе поражаюсь. Ты, – говорит, – такая смелая, а я всегда была овцой в стаде». То есть у нее как раз там никакого диссидентства, всё вот так вот аккуратненько, чтоб там никто ничего не сказал. Там выйти замуж, родить детей, чтоб всё аккуратно, чтоб всё прилично. То есть, она совсем не диссидент. А с папой я же ветеран протестного движения. Потому что с папой мы ходили на демонстрации в [19]87-м году, в годовщину революции. С этими… с российскими флагами. И в [19]91-м и [19]92-м году. То есть папа как раз вот в этих… таких перестроечных движениях принимал активное участие. А сестра его нет.
[Интересно. А бабушка или папа что-нибудь рассказывали про смерть Сталина?]
Нет, это вообще…
[Ну, папа не может помнить, а бабушка что-нибудь рассказывала?]
Нет. Я вообще с удивлением узнала… Там единственное вот… я узнала о существовании Сталина от папы. Потому что я помню, я в детстве хотела быть военным. Я, конечно, хотела быть самым главным военным. Вот мы с ним разбирали: а вот кто там вот. «Ну, сначала ты будешь рядовым, а потом кем?» «А потом ефрейтором». «А потом кем?» «А потом там…» Ну и так далее, и так далее, и так далее. «А потом я стану маршалом, и это, – говорю, – будет самое главное…» Значит… ранг, должность, я уж не знаю. Чин. «Нет, – говорит, – есть еще генералиссимус, и у нас был только один генералиссимус – Сталин!» Вот, он…
[С иронией этой произнёс?]
Нет, нет. Я как раз тогда вот из его… Это был как раз примерно [19]85-й год, как раз вот празднества, которые были посвящены сорокалетию Великой Победы, это действительно отмечалось с большой помпой. Вот. И он не говорил об этом с иронией, скорее с воодушевлением каким-то. Но не с таким воодушевлением, что вот прям надо идти и молиться на Сталина. Ну «смотрите, слон!» Как-то так это вот было. Просто удивительное дело, вот. Маршал, а вот он генералиссимус. Вот.
Я вообще удивляюсь, насколько в жизни бабушки не существовало вообще никакой политики. Вот все ее истории – они абсолютно бытовые. То есть ни про смерть Сталина, ни вообще ни про какие репрессии, ни про что такое она не говорила. Ну то есть, вот какие-то косвенные признаки были, но так нет. Скорее, про войну, про ее последствия, про то, что после войны у нас на железнодорожном мосту, который был через… ну, он и есть сейчас. Который соединяет Люблино и Печатники как раз. Туда-сюда можно по мосту перейти. Вот, там сидели инвалиды. И сколько их было после войны, и как в один момент их всех не стало. Потому что их всех вывезли.
[Они просили милостыню?]
Да. Они просили милостыню, они пели песни. Там по электричкам ходили тоже пели песни. Потом в один момент их не стало.
[А какие песни пели бабушка не рассказывала?]
Нет. Бабушка не рассказывала. А, бабушка еще рассказывала про баню общественную. Что была общественная баня. Я не знаю, к сожалению, где она располагалась. А, что-то я ее спросила: «А как же вы мылись?» Она говорит: «В баню ходили». И вот надо было ходить в баню в свой день. А я, говорит, как-то пришла в пятни… нет, в четверг. Точно. Они ходили в пятницу, а она пришла в четверг. А там, говорит, татарки. И они свою «курицу» бреют. Вот. Ее это потрясло до крайности.
И у нас действительно в Люблино большая татарская диаспора. И вот как раз Аня… ее близкая школьная подруга, с которой они дружили всегда, она умерла, к сожалению – тетя Фая, она Фарида на самом деле. Мама ее тетя Соня, которая Сания. Вот много тоже таких, да.
[Интересно, а откуда там татарская диаспора? Там какая-то фабрика ткацкая, нет?]
Нет. Там ничего такого не было. Я как раз спрашивала, есть такой Марат Сафаров, я с ним дружна, он как раз вот занимается историей московской татарской диаспоры. Я его тоже спрашиваю, так, говорю, ну ваши-то понятно… Во-первых, они все не казанские татары, а это мишари, которые приехали из Рязанской губернии. И там вся эта история, насколько я понимаю, она связана скорее или с фабрикой, или с железной дорогой. Потому что у нас таким основным градообразующим предприятием до войны и после войны долгое время, до постройки АЗЛК [прим. – Автомобильный завод имени Ленинского комсомола] практически, была именно железная дорога и Люблинский литейно-механический завод.
[Классно. Понятно… Ходили в баню. Кино не было, потому что ездили в Москву.]
Да, в кино ездили в Москву, я причем удивляюсь, почему она не рассказывает про Дом культуры Третьего Интернационала. Вообще ничего не рассказывает. Хотя там по идее что-то было явно. А вот папа уже ходил в кино в Дом культуры Третьего Интернационала. Почему так, я не знаю.
[А там были какие-то памятники на территории?]
Да. Конечно. Был памятник, и папа про него вспоминает как раз всегда. Там прямо напротив дома был так называемый Железнодорожный сквер. В этом Железнодорожном сквере был памятник «Ленин беседует со Сталиным в Горках». До моего времени этот памятник не сохранился, но папа о нем часто вспоминал, как они по нему лазили и бегали.
[А за это как-то не наказывали?]
Нет.
[А ты не слышала как бы такое неофициальное название?]
Нет, нет. Не было.
[Там типа как в Самаре, я не знаю, памятник Чапаеву называется «Чапаев берет обком»?]
Нет-нет-нет-нет-нет. Я знаю, там в Харькове памятник Ленину называют «Трое несут холодильник из ломбарда». Ну, потому что там правда сзади ломбард. Или в Петербурге вот это вот «Танцующий Ленин» [смеется]. То есть, это знают все. Нет, ничего такого не было. Ну там Ленин и Сталин. Никаких там «Лениных на лавочке» и ничего такого.
[А какие-нибудь там еще особенности ландшафта имели какие-нибудь названия такие специальные?]
Нет. Там скорее назывались вот… почему-то и мне запомнилось, вот у нас, как ни странно, такие основные топонимы – это магазины. Потому что у нас там Милицейский магазин, потому что там действительно милиция в том же здании. Серый магазин, Белый магазин. Я думаю, потому что они раньше были покрашены в эти цвета. Там был Серый универмаг и Белый универмаг. Даже это дошло до моего времени. Когда и серый, и белый были одинаково желтые. Ну вот там «дети такие ленты купили в Сером» – и все знают. Серый, Белый, Алкашный вот этот вот. И в нашем районе был Первый универсам, Универсам номер один, но он так и назывался Универсам. То есть вот по топонимам как-то так. Ну, вот да.
Пирожки с лезвиями. Чернила из крови. Отношение семьи. Матерные поэмы. Дочь врачей. «Низовая» культура. Одиночество. Анекдот про немца, поляка, русского и царскую дочь. Безопасность. Свободные прогулки (01:34:21 – 01:47:11)
[А что говорили… А не было такого, чтобы… Поскольку там все железнодорожники, очень много железнодорожников, не рассказывали какие-то истории про поезда исчезающие?]
Нет.
[Есть чудесная легенда про дрезину-убийцу, которую рассказывают в Тушино.]
Нет. У нас вот как-то вот вообще, надо сказать, было мало страшных историй. Не знаю, мне, наверное, с семьей повезло. Потому что вот вокруг меня были мещанские девочки – вот они этого больше знают. У нас как-то… у нас было не принято говорить о глупостях. Мне как-то сразу было понятно, что это всё глупости.
[А про отравленные джинсы не рассказывали?]
Нет.
[Или взрывающиеся авторучки. Жвачки, отравленные американцами?]
Нет. Нет-нет-нет-нет. У нас в школе рассказывали про пирожки с лезвиями.
[Пирожки?]
Пирожки с лезвиями.
[Откуда берутся там лезвия?]
Тетка специально их туда кладет, чтобы люди умирали.
[А кто эта тетка?]
Никто, просто. Что вот тетка… что вот на базаре надо внимательно смотреть за пирожками, потому что вот… Ну как вот, покупаешь беляши. Вот если не в кулинарии, а там где-то, то надо аккуратно смотреть, потому что могут быть лезвия. И рассказывали еще страшную историю про то, как одна тетка ловила детей, затаскивала их в подвал и из их крови делала чернила для авторучек.
[Вау, какой сюжет! Можно еще раз?]
Пожалуйста.
[Значит, тетка затаскивала…]
Тетка затаскивала детей в темный подвал. Там их убивала. Сцеживала кровь. И из этой крови делала красные чернила для авторучек. Причем она их… это вот не разливные чернила были, а которые были в стержнях. И потом она их сдавала в обычный магазин. Их в обычном магазине продавали.
[Господи, а в каком возрасте ты это слышала?]
В семь лет.
[В школе или во дворе?]
В школе, в школе, в школе.
[А от кого в школе?]
От Юли Чурсиной. Ну вот у меня такая была подруга, которая, как мне кажется, она была, скажем так, у нее семья была более мещанская, чем моя. Мои всё-таки были инженеры, они вот насколько вот могли, они от этого фольклора всего дистанцировались. И я очень хорошо знала, что при папе и маме можно пересказывать, а что при маме и папе нельзя было пересказывать. И вот такую историю им нельзя было рассказать, потому что они бы ругались, что я…
[А вот почему?]
Потому что это не принято.
[То есть знать такие истории как бы?]
Да. Я причем поражаюсь. Я в детстве знала массу самых страшных, скабрезных матерных поэм. И мы соревновались друг с другом в пересказывании их, вот кто знал дольше, и вот там чем было больше матерных слов, тем вот это вот оно круче. Я помню, что мы, девочки хорошего воспитания, там нам лет по восемь, то есть это даже не десять, мы вот стихи рассказывали с таким вот трехэтажным матом. Но когда приходят взрослые, мы, конечно, ничего не знаем.
[Откуда матерные поэмы?]
Девочки рассказали.
[Во дворе?]
Во дворе.
[А сейчас помнишь какие-нибудь?]
Конечно! [Смеется.]
[А можешь процитировать?]
Ой, сейчас я как-то несколько взволнована. Я лучше напишу.
[Хорошо.]
Я вспомню и напишу, потому что я помню хорошо, но просто сейчас вот воспоминания о бабушке перебили все матерные поэмы, откровенно говоря. Вот. Какие еще страшные истории? Про… про детей-то? Про детей, про детей, про детей… А, ну про то, как были муж и сестра… ой, нет, муж и жена, врачи. И как они из своей дочери, вот непонятно, зачем они это делали, из дочери, значит, отпили у нее вот так вот руки, вот так вот ноги, и перереза… А, она выпила уксус, не смогла говорить, и только вот так вот… отрезали нос, и только вот так вот она лакала из блюдечка.
[А уксус она зачем выпила?]
Они ее напоили уксусом, чтобы у нее не было человеческой речи.
[То есть они превратили ее в такое существо?]
Да. И я с удивлением, потом, когда узнала… точнее, читала китайский роман «Жень [Цзинь], Пин, Мэй» или «Цветы сливы в золотой вазе», с удивлением узнала о том, что это, оказывается, один из видов такой китайской казни. Причем я поразилась точности описания.
[Да, это называлось «человек-свинья». А это ты где услышала?]
Это я услышала во дворе.
[Тоже в детском возрасте?]
Да. Да. Да.
[А ты не помнишь, как ты относилась к этим рассказам? Например, к истории лезвий в пирожках?]
Мне было очень интересно, и я чувствовала какое-то сопереживание и единение с детьми. Потому что, наверно, из-за воспитания, ну, и я бы сказала, такого… как сказать… подчеркнутого такого дистанцированного отношения ко всему народному, к этой ко всей, к тому, что мы называем «низовой культуре»… Я чувствовала себя очень одиноким ребенком, потому что мне не с кем было особенно говорить. То есть там был еще один такой же условно культурный мальчик, как и я, но он был слишком уж занудой. Ну не, я всё-таки как-то могла поржать, побегать, там в «Картошку» поиграть, в резиночки. А он нет.
[То есть, тебе как бы хотелось слиться с такой культурой?]
Мне хотелось, мне очень нравилось рассказывать эти матерные стихи, мне нравилось рассказывать неприличные анекдоты. Со всеми смеяться.
[Но ты чувствовала, что ты как бы немножко чужая?]
Да, да, несомненно.
[А вот ты, например, истории про красные чернила не боялась?]
Нет, мне как-то сразу казалось, что это какая-то фантастическая совершенно история.
[Еще вот напрямую спрошу.]
Да.
[Вот после этой истории про красные чернила или про пирожки и лезвия не было такого, что, например, идя в магазин боишься…]
А, еще как-то раз одна девочка купила пирожок, надкусила его, а там человеческий ноготь.
[Это тоже в твоем детстве?]
Да, тоже в моем детстве.
[Потрясающе. Просто всё, что ты рассказываешь, это репертуар послевоенных легенд.]
Я больше тебе скажу, мы пели песни…
[Именно послевоенных.]
Пели песни и даже понятно, почему. Мы пели песню «С неба звездочка упала прямо Гитлеру на нос, / вся Германия узнала, что у Гитлера понос». И… господи… «С неба звездочка упала прямо Гитлеру в штаны…» Что-то я не помню дальше. «Лишь бы не было войны». И вот я потом только поняла, что действительно, это всё… Более того, анекдоты про русского, немца и поляка. Это что? Это вообще Первая мировая война. Ну, потому что там дальше начали говорить, там русский, немец и американец; русский, немец и француз. Я помню эти анекдоты – русский, немец и поляк.
[А какой-нибудь помнишь анекдот?]
Русский, немец и поляк? Я помню, что там все анекдоты вертелись вокруг русского, немца, поляка и царской дочери. Но что именно, я не помню. Я могу расска… А, вот я могу рассказать один анекдот. Значит, позвал к себе… Все они начинались так – позвал к себе царь русского, немца и поляка. И вот в этом месте уже надо смеяться. Ха-ха-ха-ха! Значит, позвал царь русского, немца и поляка и говорит – вот кто построит для моей дочери самый лучший туалет, вот, значит, тот женится на ней. Значит, позвали немца, построил немец весь туалет в золоте. Она пошла в туалет… А вот, говорит, у меня такая дочь, она как в туалет пойдет, она жопу пальцем подотрет и об стенку вытирает. Вот вы, говорит, постройте такой туалет, чтоб она так не делала.
[Я такого не знаю!]
Рассказываю. Значит, немец построил туалет весь из золота. Потому что как же, золото, жалко. Пошла, вытерла, значит, об стенку. Вот. Он говорит – расстрелять немца! Значит, поляк построил просто крепкий такой, хорошо отделанный туалет безо всякого золота. Но всё равно жалко. Нет, всё равно пошла, значит, жопу подтерла, об стенку вытерла и пошла. А русский, значит, пошел и построил такую хибару и навтыкал этих… гвоздей. Внутрь. Значит, она жопу подтерла, об стенку ударила палец, уколола, облизнула и больше так никогда не делала. Так русский женился на царской дочери.
[Какой класс, я такого анекдота не знаю, хотя всю жизнь занимаюсь анекдотами. А это тоже вот в том самом дворе?]
Да. Да, да.
[А в каком примерно возрасте ты его услышала?]
В восемь лет.
[И смеялась?]
Нет, мне вот, честно говоря, такие анекдоты как-то всегда казались несколько странными. И честно говоря, для меня вообще поход в детский сад, в школу – это для меня вот какой-то такой было… как в зоопарк. Потому что, я помню, мне рассказали первый детский анекдот про то, что «товарищ Милиписькин, шофёр не виноват, / мы ехали по маслу и врезались в салат». Мне говорят: «Это же анекдот!» Я говорю: «И что?» «А почему ты не смеешься?» Я говорю: «А над чем тут смеяться?» «Ну как, вот смешно же!» И я помню, что мне мало какие анекдоты казались такими вот прям искренне смешными. В основном, я смеялась за компанию. Ну то есть, для меня анекдот скорее был такой формой социального поведения. Я не могу сказать, что я прям… Над какими-то я искренне смеялась, но вот в основном… не особенно.
[А вот если вернуться к прекрасной истории про красные чернила, которая прямо требует отдельной статьи, после этого не было такого, что ты боялась зайти в магазин?]
Нет, никогда.
[Или там купить стержень?]
Никогда. Никогда. У меня… Нет, я понимала, что все эти истории, собственно, они вот и рассказываются для того, чтобы вызвать вот этот бытовой ужас, типа истории про там какую-нибудь… не знаю, гномиков, которые там приходят через кольца от зубной пасты. Или черную… ой, как она называется? Пиковую даму вызывают в пионерском лагере. То есть, мне понятно было, зачем это рассказывают…
[То есть рассказывали про Пиковую даму?]
Конечно. И вызывали даже. Но мне не было страшно, потому что, повторюсь, вот я помню, я себе очень кинематографично представляла эту историю, и она у меня была какая-то такая прям мультипликационная. То есть мне никогда не казалось, что это по-настоящему.
[Ну, видимо, защищенная была семья. А ты испытывала чувство безопасности в семье?]
Да. Да, да. Я помню, что даже когда вот мне рассказывали, что вот, если к тебе… Во-первых, я везде ходила одна. Вот. Ну мы вообще были такие шлюссель-киндеры. То есть дети с ключом на шее. И никто не переживал о том, что мы там куда-то одни пошли или еще чего-то. Там надо было гулять в районе двора, то есть, вот если бы мы там одни на станцию Люблино ушли, вот это было бы да там, нас бы хватились. А вот так вот в округе – пожалуйста, гуляй. Мне, я помню, говорили: «Вот если к тебе подойдут там чужие люди и будут угощать конфетами и будут приглашать кататься на машине, то ты не соглашайся и вообще со взрослыми людьми не говори». С чужими. А мне было так чудно, что вообще со мной такое может произойти. То есть мне настолько казалось вот это всё безопасным, что я ничего не боялась.
Герой Труда. Пятьдесят девятый дом. Танцы под патефон. Подписанные пластинки. Баян. «Миленький ты мой». «Чубчик». Дворовые игры. «Сиди, сиди, Яша». «Все свои» в районе. Яша. Слон. Тульская электричка. Бояре. «Кодолы, разбейтеся». Игры мальчиков и девочек (01:47:13 – 01:52:37; 01:53:27 – 02:02:49)
[Понятно. Понятно. Скажи, пожалуйста, почему вот ты говоришь про своего прадедушку, который рано умер, что он был сталинский Герой Труда?]
Потому что этим объясняется, почему они жили в пятьдесят девятом доме. Потому что пятьдесят девятый дом – это, как я уже говорила, это такой дом, где давали квартиры выдающимся людям. Прадедушка мой – он был таким довольно простым человеком. То есть, как он мог оказаться в этой компании? Только будучи сталинским Героем Труда. Но это действительно так.
[А не было у бабушки песенников?]
Нет, нет, нет. У моей бабушки были только пластинки. Из того… ну из таких, скажем, форм совместного проведения досуга она говорит, что они танцевали на квартирах под пластинки.
[Под граммофон?]
Под граммофон.
[Патефон.]
Ну да. Патефон. И что вот все приносили пластинки у кого какие были…
[Приносили с собой?]
Приносили с собой. И там под них плясали. У нас до сих пор сохранились пластинки, которые подписаны «Ральцева». Ну вот, потому что их надо было потом забирать с вечеринки, чтобы все знали, где какая.
[Класс.]
Да.
[А это мы примерно про какие годы говорим?]
Это… ну, если она «Ральцева», значит, это уже была замужем, значит, это было в [19]50-х годах.
[А на баяне играли как бы на улице, на таких больших гулянках?]
Нет. В доме тоже играли на баяне, но просто у нас в семье никто не играл на баяне, а так вообще принято было, да. Ну то есть… семья, баян. У нас песни пели хором, вот что я помню. У нас, когда вот как раз у тети Нюры собирались, то пели песни хором.
[А какие?]
«Миленький ты мой, / Возьми меня с собой…»
[«Там в дали…?»]
Нет, никаких «Там в дали». Из таких вот интересных песен, которые мне запомнились…
[«Миленький ты мой, / Возьми меня с собой» с фольклорным куплетом? «Миленький ты мой, / Ну и черт с тобой»?]
Нет. Не, не, не.
[А как заканчивалась эта песня?]
«Милая моя, есть у меня жена…»
[«Взял бы я тебя, / Там в краю далеком / Есть у меня жена»?]
«Чужая мне не нужна». Всё.
[А есть еще продолжение. «Миленький ты мой, / Ну и черт с тобой, / Там в краю далеком / Есть у меня другой».]
Нет! Таких песен в нашей семье не исполнялось! [Шутливо.]
[«Миленький ты мой» пели, а это за столом, да?]
Да. Это одна из застольных песен. И потом вот, из тех песен, которые мне запомнились, про «На столе стоит каша гречневая, / Хороша любовь, да невечная, / На столе стоит каша манная / Хороша любовь, да обманная». И припев такой: «Эх, чубчик мой, / Чуб волной-волной, / Говорили тебе, милый, / Не гуляй со мной».
[А можно повторить припев, потому что дверь хлопнула?]
Да. «Эх, чубчик мой, / Чуб волной-волной, / Говорили тебе, милый, / Не гуляй со мной».
[Это пело старшее поколение?]
Старшее поколение, да.
[Хором?]
Хором. Это пели люди, которые родились вот как раз где-то до [19]38-го, [19]37-го года. То есть самые молодые люди, которые ее исполняли, были [19]38-го, [19]37-го года. О, вспомнила. У моей школьной подруги папа играл на баяне. И вот как раз, когда у нее был день рождения, тогда собирали и детей, и взрослых. И родственники сидели отдельно, у них была довольно большая квартира, а мы, дети, там отдельно бесились. Я очень любила ходить слушать, как поют взрослые. Потому что папа как раз выносил аккордеон. Папа у нее был немец. Он доставал свой «Вельтмайстер» и фигачил на нем разные песни.
[А на какой мотив пелся этот «Чубчик»?]
«На столе стоит каша гречневая, / Хороша любовь, да невечная. / Эх, чубчик мой, / Чуб волной-волной, / Говорили тебе, милый, / Не гуляй со мной. / Эх, чубчик мой, / Чуб волной-волной, / Говорили тебе, милый, / Не гуляй со мной» [поет].
[Класс. Я даже этой песни не знаю. В городском репертуаре я ее не знаю.]
А вот.
[Класс. Я попытаюсь узнать что-нибудь про историю этого. Одна аспирантка-американка пишет сейчас про русскую песню. Как бы XX века. Неофициальную.]
Если неофициальную, то я много знаю дворовых песен.
[Наташа, что ты делаешь завтра?]
«В саду виднелся белый дом, / Вокруг него росли аллеи, / А у открытого окна / Сидела молодая Мэри» и полно всего такого.
[А можно я с тобой еще раз встречусь по поводу песен?]
Конечно, можно. Я думаю, вообще нам надо отдельно встречаться про песни, потому что это действительно…
Я много знаю жестоких романсов. Если это интересно.
[Да. Но, конечно, особенно интересно вот живой репертуар. То, как люди пели, и в какой…]
Я думаю, что я могу больше спеть именно детского репертуара. Ну то есть там вот эти вот все школьные песенники, там всё такое.
[Я хочу уточнить. Они пели не по песенникам, да?]
Нет.
[То есть культуры песенников не было никакой?]
Не-а. Вообще. Все всё знали наизусть. Это вот у нас, у нас были песенники. В школе.
[Класс. Класс. Понятно. Так, я, пожалуй, иссякла с вопросами. Но я, может быть, переслушаю интервью, и когда я его расшифрую, я, может быть, еще новую порцию задам.]
Конечно, с удовольствием.
[Жутко интересно.]
Я могу про детскую дворовую культуру много рассказать.
[Ну, значит, песни мы оставляем до завтра. А кроме песен там что было?]
Там – это где?
[Ну как бы детская дворовая культура?]
Ну как, песни, анекдоты, игры.
[Во что играли?]
Картошка, вышибалы, резиночки, казаки-разбойники, кис-кис-мяу.
[Такой да, обычный набор. Традиционный.]
Бояре.
[Бояре играли вживую, да?]
Угу. «Сиди, сиди, Яша».
[А текст помнишь?]
«Сиди, сиди, Яша, под ореховым кустом, грызи, грызи, Яша, орешки каленые». Я в детстве не знала, что «милому дареные». У нас пели «милым удаленные».
[Удаленные?]
«Милым удаленные», да.
[Класс. А дальше?]
«Чок-чок, пятачок, вставай, Яша-дурачок, где твоя невеста, в чем она одета, как ее зовут и откуда приведут».
[Класс, просто класс. Как раз вот удивительно, что по всем параметрам какой-то был заповедник.]
Да?
[Ну да. Всё, что ты рассказываешь, это репертуар как бы очень такой, более… более старый.]
Может быть, но, с другой стороны, если посмотреть, в той-то Москве не было такого большого сообщения между районами. У нас идешь за хлебом, ты видишь примерно всех людей, ты их знаешь, там кто из какого дома.
[То есть, такая была… тесные соседские отношения?]
Очень. Очень. Там вплоть до того, что я помню прям идешь по улице, и ты всех знаешь. Ну всех – это я, конечно, загнула. Но то есть люди все примелькавшиеся. Даже ты едешь, например, в универсам, это довольно далеко. Ну в своих-то магазинах все уже совсем свои. Но вот едешь куда-то, и всё равно ты всех знаешь. Ну то есть часть народа так или иначе тебе знакома.
[А вы в «Яшу» играли?]
Конечно.
[А когда играли?]
Мы играли в школе на перемене. Что-то во дворе не было интересно. А вот в школе на перемене в самый раз. В младших классах, примерно класса до третьего. Мы так становились кругом, и «Яша» садился в середину, и вот мы ему пели «Сиди, сиди». Мы водили хоровод, пели «Сиди, сиди, Яша, под ореховым кустом». Но мы скорее скандировали, чем пели. То есть «Сиди, сиди, Яша, под ореховым кустом, грызи, грызи, Яша, орешки каленые, милым удаленные. Чок-чок, дурачок, вставай, Яша…ой, чок-чок, пятачок, вставай, Яша-дурачок, где твоя невеста, в чем она одета, как ее зовут и откуда привезут» [скандирует]. И когда вот начинали вот это петь, все стояли вот так… как начинали «чок-чок, пятачок», все останавливались, «чок-чок, пятачок», кто-нибудь шел в середину, поднимал вот так этого «Яшу», он закрывал глаза, его раскручивал, и «Яша» вот так показывал. И вот на кого он показывал, тот выходил и садился. Я так понимаю, что это целовальная игра. Ну, потому что иначе зачем тыкать-то? Тем более…
[Вы не целовались?]
Конечно, нет, мы же были маленькие дети. Причем у нас мальчики не играли, это девочковская игра была.
[Класс.]
А мальчики у нас играли в слона, например. Это когда вот так вот становятся, друг другу в подмышку запихивают голову, получается такой как бы [… – нрзб.: 01:58:31 – 01:58:32], ну и остальные на него запрыгивают. Еще у нас была специфическая игра, называлась тульская электричка. Это когда все садятся на подоконник, надо разбежаться и со всей дури вышибить крайнего.
[То есть вот так сбоку?]
Угу. Ты разбегаешься, и, извините, жопой бьешь того, кто сидит справа. И иногда тебе удается сесть вместе со всеми на этот подоконник, а иногда не удается. Если тебе не удалось, ты продолжаешь водить, а так кто вылетел. А все вот так вот «ы!», сидят изо всех сил.
[Потрясающе. Называлась «тульская электричка»?]
«Тульская электричка». Почему тульская электричка, понятно, потому что у нас как раз из Москвы на Тулу, и там пока все, народ набивается до Тулы…
[Это как раз местная игра?]
Местная игра, да. Нет, я думаю, она еще где-то была. Но именно у нас она называлась тульская электричка. Еще у нас была страшная игра в «Ножки». Это когда разбегаешься и вот так «тынц!» на ногу наступаешь.
[А дальше?]
А дальше ты за всеми бегаешь, и тебе надо наступить другому на ногу. Ну это как бы такие же салочки, только вот салишь вот так вот, наступая.
[А ты знаешь статью Топорова про игру в «Яшку»? Вот «Сиди, сиди, Яша»?]
Да, да. Знаю.
[Просто резко вспомнила эту статью. Впервые вижу человека, который может процитировать текст.]
Я вообще крайне удивлена тем, что у меня вполне такой этнографической была вот эта вот «бояре, а вы к нам пришли». Потому что, например, моя мама росла в совершенно другом регионе, у них это называлось «кондолы, разбейтеся».
[Как называлось?]
«Кондолы». Я говорю, вот, мам, мы в школе в «бояре» играли. Она говорит, как это, в «бояре»? Я ей там начинаю объяснять, а, говорит, это «кондолы, разбейтеся». Я говорю – а как в «кондолы, разбейтеся?» Ну, говорит, то же самое, только «кондолы, разбейтеся». Ну, у них там была какая-то более простая версия, то есть без вот этих вот песен. Потому что у нас это натурально шоры были. То есть, это вот прям подходишь, кланяешься. К тебе тоже подходят…
[И с мальчиками, да? Ну, смысл-то тот же…]
Мальчики играли с нами редко. В «бояре». Я помню «бояре» как девичью игру.
[А в каком возрасте?]
Тоже первый-третий класс. Потом уже было неинтересно. Потом уже больше резиночки. Ну, какие-то такие более подвижные игры. Там десяточки какие-нибудь, выбивалы-вышибалы. В банки.
[В банки это как?]
Ну банки, насколько я понимаю, это такой упрощенный аналог городков. Берется банка, рисуются как раз воинские звания от рядового до маршала. И ты встаешь, сначала ты рядовой, ты так вот кидаешь биту, и твоя задача выбить банку. Если ты банку выбиваешь, ты переходишь на следующую.
[Класс. Тоже девочки играли?]
Нет, вот в банки как раз играли и мальчики, и девочки. Это как раз была больше мальчиковая игра. Я не могу сказать…
[Это во дворе?]
Во дворе, да. Я не могу сказать, что девочек прям ругали за это, но вот не все девочки в это играли. Если бы, например, шла мама и увидела, что я играю в эту игру, она бы меня позвала и велела бы не играть в эту игру. То есть, скажем так…
[Не одобрялось?]
Не одобрялось. В нее играли девочки без присмотра мам. Да. Что же у нас еще такое было девочко-мальчикового? Вот самая такая девочко-мальчиковая игра – это была вышибалы. Вот вышибалы, картошка, третий лишний. Вот это да. И иногда мальчики с нами прыгали в резиночку, но это было редко.
Москва «не интересовала». Подземелье МГУ. Немецкие дома. Пленные немцы, хлеб. Запирающиеся дворы. Бомбоубежище. Лагерь военнопленных. Немец-летчик. Дисциплина (02:02:55 – 02:12:52)
[Класс. А вот скажи, пожалуйста, если возвращаться к теме Москвы, не слышала там ты, или папа рассказывал, или там бабушка, дедушка, истории про то, как там появлялись в Москве разные объекты там? Почему в Москве появилось… круг на карте метро, например?]
Дело в том, что у меня именно не Москва, у меня именно Люблино. Вот насколько я понимаю, люблинских жителей Москва не волновала.
[Совсем, да?]
Вообще. Ну то есть Москва – это был такой вот… Ну они туда ездили как туристы такие своеобразные. То есть «вот она какая, большая-пребольшая» [поет]. Ну вот что там происходит, там бог его знает.
[А что-нибудь в Люблино рассказывали про какие-нибудь там подземелья секретные военные?]
Нет. А их и нету там.
[Ну, предположим, и Метро-2 нету, но, тем не менее, про него рассказывают.]
Я понимаю, но просто дело в том, что в Люблино слишком деревенская среда, чтобы про это думать.
[Но почему-то Раменки, например, все Раменки полны историй про подземелья.]
Ну не знаю.
[Или про секретные бункеры?]
У нас нет никаких историй ни про подземелья… Я сейчас просто пытаюсь вспомнить. Нет, максимум… Я первый раз услышала историю, вообще в жизни своей, услышала историю там про секретные подземелья, это у нас в университете, в МГУ, ходили байки про то, что МГУ – оно вниз простирается вот настолько же, насколько вот этот вот весь шпиль вверх…
[Зеркальное такое.]
Да. И что там был один студент, и попал он в это подземелье, и там ходил-ходил, и там по одной версии он там так и сгинул, по другой версии, что его там отловили какие-то дядьки. Вывели наверх и сказали: «А про то, что ты здесь был, никому не рассказывай!» [говорит зловещим голосом]. Вот. Но у нас ничего подобного не было. Никаких таких штук.
У нас скорее это вот либо какие-то местные топонимы, либо там рассказы, как было, как строили пленные немцы дома. Потому что у нас же там были одни из первых советских типовых застроек. Вот которые трехэтажные. И я все детство была уверена, что немецкие дома – это потому, что их проекты немецкие. И мой папа тоже говорил, что вот, дескать, немецкие дома, проекты немецкие. Гурьянова вот, кстати, застроена. Гурьянова – это не Люблино, но в Люблино тоже это было. А недавно я просматривала один архитектурный журнал, и оказалось, что это как раз-таки советский проект, но их строили действительно немцы.
[А не рассказывали, что там они как бы так строили, что форма свастики видна под определенным углом? Или они там какие-то послания вкладывают в стены?]
Нет. Нет, нет. У нас наоборот, у нас все рассказы про немцев – они такие… Ну во-первых, их немного, во-вторых, они скорее жалостливые.
[А что рассказывали?]
Бабушка рассказывала, что гнали по Люблинской улице пленных немцев, и их было жалко.
[Они там хлеб не кидали им?]
Кидали. Кидали хлеб, она говорила, что немцев вообще как-то жалели. И она говорила, что много людей умерло. То есть вот для меня немцы – скорее такой поверженный враг, которого надо пожалеть.
[А бабушка не рассказывала, почему кидали хлеб?]
Жалко. Там же жалко, что они голодные, какие-то, говорит, оборванные, очень, говорит, их было жалко.
[А такой идеи не высказывали, что, дескать, я кину… ну, бабушка-то была молодая, но, может быть, она там слышала. Что я кину хлеб, потому что там мой сын, моего сына кто-нибудь в плену тоже накормит?]
Ну нет…
[[… – нрзб.: 02:06:50 – 02:06:51] не было, да?]
Может быть, и было, но вот у меня такое ощущение, что они же все.. у них же рефлексии-то ноль. Они помнят только про себя. И вот что вот для них актуально, то они и помнят. То есть, для меня Люблино – это вот молодая жизнь моей бабушки скорее. И вот все вот ее стадии. А всё остальное, то, что там в это время были и взрослые, и какие-то зрелые люди, старики, всё это как-то…
[То есть про немецкие дома никакие истории не рассказывали?]
Нет, нет, нет.
[А они считались престижными? Жить в них?]
Да. Но они действительно выглядели очень привлекательно на фоне остальных домов. И я очень хорошо помню эту застройку. Я помню, я вот всегда ехала когда мимо на автобусе, я так ими любовалась, я так жалела, что я не живу. Потому что там были сады и такие вот как раз замкнутые дворы. А, и папа рассказывал, что, когда он был маленьким, у них двор запирался. И у нас довольно много сохранилось дворов, в которых сохранилась вот эта вот решетка и такие отдельные входы-калитки. Вот он говорит, что «я помню те времена, когда вот эта калитка запиралась».
Было бомбоубежище! Я вспомнила. Папа рассказывал, что они в бомбоубежище лазили, когда играли в казаки-разбойники. Бомбоубежище было как раз сразу под домом. А бабушка про него не рассказывала. Ну, может быть, это было просто… Ну вот я помню, что папа как раз рассказывал, что они прятались в бомбоубежище, но им запрещали. И вообще, это было небезопасно.
[А где немцы… То есть, получается, что где-то на территории Люблино держали военнопленных?]
А там концлагерь был.
[Концлагерь для военнопленных? А где?]
По-моему, на те… вот где-то рядом с Литейно-механическим заводом. Я не могу сказать наверняка, но проходили они по Люблинской улице. Ну это сейчас Люблинская улица, тогда это было Московское шоссе, насколько я знаю.
[А вот ты говоришь еще, что там… рассказывала про соседа, который был с баяном. Ты сказала, что он же немец.]
Да, он немец, но там такая очень оригинальная история. Потому что он, хотя и жил в нашем районе, ну и вообще моя подружка Марина – она, что называется, тоже плоть от плоти, кровь от крови, и в одну школу мы ходили. И сейчас она недалеко от этого района уехала жить, взрослой уже. Папа у нее был летчиком-испытателем, который работал в Жуковском. И вот, собственно, вот этой экзотической профессией и объяснялось то, что вот он как бы немец, а живет среди нас.
[То есть он был этнический?]
Да, он был этнический немец. Хотя у него было русское… Я не помню отчества. Звали его Геннадий. Что-то у меня так где-то сзади брезжит Генрих. Я не помню, говорилось ли об этом, но почему-то вот у меня вот это… брезжит на периферии.
[Назывался Геннадий, а на самом деле он Генрих?]
На самом деле, он был Генрих, я полагаю. Но он был абсолютный немец. И причем у него были даже какие-то немецкие привычки. Во-первых, он был всегда такой очень стройный, подтянутый. То есть вот большинство моих… скажем так, отцов моих подруг, ну они были такие типичные советские мужчины, такие расхлебаи.
[В майке-алкоголичке, с животом?]
Ну, да, да. Вот эта вот ходьба по дому в семейных трусах. Это ад какой-то вообще. Вот мой отец был не такой. Но я бы сказала, что наша семья – она довольно сильно выделялась на вот этом вот общем фоне. Ну вот. А у Марины, значит, он вот всегда требовал там порядка, строгости, но причем это был порядок тот, который у него у самого был. То есть он требовал определенного образа жизни. Потому что на нас там периодически налетали там – ну-ка убери, ну-ка там то, ну-ка се! Ну и мы понимали, что это штурмовщина, что на самом деле все вот так как-то… живут «раствори ворота», а от нас что-то требуют, чтоб вот мы были такие все застроенные с какой-то радости. А он сам такой вот весь был прям по линеечке, аккуратный, очень вежливый. Он был летчик-испытатель, и он когда приезжал из своих полетов, он себе покупал ящик пива и пил его. Уж я не знаю, выпивал ли он его весь, но я помню, что я как-то раз была у нее в гостях, и вот там папа был как раз после полета, так у него две бутылки, пара пива стоит на столе, он такой с кружкой.
[Очень по-немецки.]
Очень по-немецки, очень по-немецки. И вот он был вот именно такой, что вот мне запомнилось, умеренность, порядок…
[А как они не были высланы во время войны?]
Шут его знает. Более того, что Маринин дедушка, он как раз работал в ЦАГИ [прим. – Центральный аэрогидродинамический институт], и это его сын. То есть дедушка проектировал самолеты, а сын их испытывал.
[Ну, может, у него была бронь?]
[Но, с другой стороны, как допустить, чтобы немец проектировал вот эти самые самолеты… вот тут я сама…
[А фамилию ты знаешь их?]
Шельменковы. Официальная фамилия Шельменковы, какая на самом деле, я не знаю.
[Шельменков – прекрасно.]
Ну, во-первых, мы можем предположить, что это Шельменко. Соответственно, может быть, это какие-то кантонисты. Потому что они не совсем местные. Они вот откуда-то, откуда-то. Вот.
[Класс. Спасибо тебе большое.