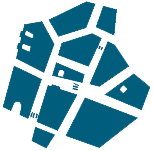О знакомстве с хранительницей наследия Мандельштама (00:03:28 – 00:05:01)
Теперь, Ирочка, скажите мне такую вещь: когда я спросила вас «Вы Богатырёва?» – я спросила, потому что Вас, наверное, все спрашивают, многие спрашивают, да? Имеется в виду Софья Богатырёва? [Во время предварительного телефонного разговора Нина Георгиевна, услышав фамилию собирателя, спросила, не родственница ли она, не уточнив, чья именно.]
[У меня много однофамильцев, начиная от актёров и заканчивая фольклористами. Сейчас я занимаюсь фольклором, и меня все спрашивают про Петра Богатырёва, это такой фольклорист известный, который этнограф, собиратель, он на Балканах…]
А сколько, сколько ему было бы сейчас лет примерно?
[Это сложный вопрос…]
Потому что, потому что моя сестра старшая, Эллочка, мы когда сюда [на Космодамианскую набережную] переехали – мы на Мещанской [улице] до этого жили (вот то, что вы сейчас читаете, это происходит на Мещанской, понимаете [речь о книге «Счастливая девочка»]). То есть она сейчас [по-другому называется]… был… проспе[кт Мира сейчас называется]… Короче говоря, улица Мещанская, в Москве тоже, естественно…
Когда мы сюда [на Космодамианскую набережную] переехали, я пошла в одну школу, Эллочка в другую из-за языка. И там она познакомилась с девочкой, которую звали Соня Ивич. А потом она вышла замуж за Богатырёва Костю, которого потом убили. Он был диссидентом, он был очень, сыном каких-то тоже литературных людей, она была очень сыном тоже… дочерью очень литературных людей.
Потом [Софья Богатырёва] стала – как это называется? – хранительницей наследия Мандельштама. Ей поручили это. У неё много… Поэтому я и подумала, что может быть… И мы… Я с ней знакома с двенадцати лет. Эллочка нас старше на три года – она с ней познакомилась в пятнадцать. Поэтому я спросила.
[Фрагмент интервью 00:05:01 – 00:06:37 не публикуется.]
О переезде из Ленинграда в Москву. Квартира на 1-й Мещанской улице как поощрение за руководство отделом в Институте химической физики. Об истории названий Космодамианской набережной. Буфет, рояль и семь человек в квартире (00:06:37 – 00:12:51)
[Расскажите, как Вы сюда попали?]
Как я сюда попала. Мы жили до [19]48-го года на Мещанской [улице] [прим. – С 1957 г.1-я Мещанская улица была объединена с рядом других улиц и вошла в состав Проспекта мира.], наша семья жила. Нас тогда уже тогда было семь человек, брат родился уже.
И папа [прим. – Речь идёт об известном физике-экспериментаторе Шнирман Георгие Львовиче (1907 – 1993).] с [19]46-го года – его правительством взяли на атомный проект, тогда готовили атомную бомбу. Ну, взрыв. Тогда это был очень серьёзный момент, потому что тогда бомба была только у Америки. А папа был у нас как бы, он уже тогда числился прибористом номер один. В стране, понимаете? Но по секретному, потому что он работал до этого с Алцаесом [прим. – Рассказчик имеет в виду депутата Верховного Совета СССР Якова Ивановича Алксниса (1897 – 1938).], Тухачевским, т.е. он до этого, до этого времени (т.е. до войны и во время войны) он работал над военной авиацией, вот так скажем. И там делал приборы для этого. Он был очень талантливый приборист, кончал физфак, физико-математический факультет Ленинграда. [прим. – Ленинградского университета.] У меня родители ленинградцы.
В [19]35-м году их пере[вели.] Указом Сталина всё это было перевезено в Москву. Все – поскольку столица в Москве – все такие серьёзные, важные [мероприятия оказались в Москве.]
И в [19]46 году папа возглавил направление большое. Сектор был в Институте химфизики, который… – к физике это не имело отношение – и он его возглавлял. [прим. – С 1946 г. Георгий Львович возглавлял отдел приборостроения в Институте химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН.] И ему дали… (в [19]46-м [возглавил]), а в [19]48-м ему дали эту квартиру. Как поощрение. Мы тогда жили, нас было семеро в мале[нькой квартире]… 44 метра или 43 у нас была квартира.
Но на самом деле, как Вам сказать, Ирочка, понимаете, Вы даже не можете себе представить, в каких условиях тогда жили люди! Вы просто себе представить не можете! Даже сейчас все бурно очень, потому что Вы очень молодой человек, и Вы видите вот… для Вас это всё, что было в [19]90-е годы, там тридцать лет назад, - для Вас это [смеётся.] что-то такое невозможное! А для меня это вот то, что сейчас я, то, о чём я рассказываю, это происходило практически больше семидесяти лет назад, Вы понимаете.
И… в [19]35-м году их институт переехал в Москву, и там был построен дом специально для Академии наук, там жили только чле[ны]… как бы… Поэтому это очень важно, поэтому, как бы, родители не боялись. Мы когда играли во дворе: вот так вот немножко была другая среда. Понятное дело, что среда была. Я очень хорошо это понимала по школе, [усмехается.] что среда другая.
[А какой это был номер дома?]
Там был 90-96, Мещанская, мы жили. Это сначала мы жили – улица Мещанская, дом 90-96. Когда мы там жили, при нас построили, немножко он чуть-чуть дальше от тротуара – и тут построили ещё большой дом. Так что потом к нам надо было… И против нас был такой шикарный – улица там ещё такая широкая, это довольно близко уже к Рижскому вокзалу, тогда он назывался Ржевский вокзал. [прим. – Рижский вокзал назывался Ржевским до 1948 г.] Вот тогда.
И до, значит… Родители-ленинградцы попали сюда в [19]35-м году в квартиру на Мещанской. А в [19]46-м… Потом мы уехали в эвакуацию, это будет всё [в книге.] Потому мы уехали в эвакуацию в [19]41-м году и вернулись в [19]43-м году.
А в [19]48-м году, в [19]48-м году мы попали сюда. [прим. – На Космодамианскую набережную.] Это тогда называлась набережная Максима Горького, она называлась набережная Максима Горького. Переименовали её в [19]90-е годы. Я думаю, это связано с тем, что у нас дальше, последующая набережная, вот тут у нас ещё примерно пройти полкилометра, после Устьинского моста, – там есть церковь Космы и Дамиана. [прим. – Храм Космы и Дамиана в Нижних Садовниках был возведён в камне в XVII в. и разрушен в 1932 г. Сейчас на его месте находится жилой дом №51 по Садовнической улице.] Вот, наверное, как сказать… Вот так вот.
В общем, когда мы сюда приехали… А Мещанская – я очень её любила, мне она… она действительно хорошая улица, там много особняков там таких… Она довольно… Не знаю, мне как горо[жанке]… Я городской житель, т.е. я люблю очень природу, но жить я хочу в городе. Мне очень нравилась Мещанская, я её просто обожала, и когда мы… Она была широкая и такая, и красивая. И когда мы приехали сюда, то мы туда при… Квартира была потрясающая, потому что, представьте себе: вот эта комната [на Космодамианской] – 16 метров. Потом я Вам покажу там [на Мещанской комната] – 28 метров. Балкон, тут кухня, ванна, уборная – всё. И такая же в точности вторая квартира. Т.е. у нас получилось четыре ком… пять комнат, потому что кухня была там, а из этой комнаты сделали папе кабинет. Это была… вот это была родительская спальня, там была столовая, там было, Вы сейчас вот увидите приметы. Там в такой же большой комнате жили – Вы потом увидите это в книжке, там есть фотографии – жили три девочки, т.е. три сестры. А вот в такой комнате там – абсолютно симметричная, зеркальная – жила бабушка и брат. И там же была кухня. И прорубили дверь: сначала между комнатами. А потом решили, что всё-таки… мы решили, что это неудобно: две такие комнаты становятся проходными, это очень неправильно. И сделали проход: от ванны оттяпали кусок. Потом я Вам покажу.
Когда мы сюда приехали, мы были потрясены.
Потому что я, например, у меня последние два года [там на Мещанской] не было своей кровати – я спала на раскладушке, потому что когда родился наш братик, в нашей комнате… (а там [в нашей комнате] 16 метров, потому что соседняя комната это была так: столовая, папин кабинет, рояль там стоял ещё, к тому же, и там была спальня, в 20 метрах). Это только такой человек как папа, который до сантиметра всё промерил, он мог оптимально это всё расставить. Вы знаете, это невоз[можно]… в 20 метрах! Стояли такие предметы, как большой буфет, как рояль, родительская спальня, вот этот туалет [см. фото: 20190828_182536.jpg] там стоял, кровать, правда, у них была полуторная. К ним проход был вот такой [показывает ок. 30 см] между роялем. А потом выемка такая у рояля: и там Анночка лежала там, до года лежал ребёнок в коляске у мамы.
Потому что Эллочка родилась в Ленинграде. А меня мама ездила рожать в Ленинград из… В общем, это по вопросам здоровья, потому что папины братья были врачами, и старший брат – он был… заменил папе отца, когда мать его умерла, когда папе было пятнадцать лет. Отец у них был довольно пожилой… Очень у них тоже… У них тоже была очень хорошая семья.
Как Шнирман Георгий Львович испытывал ядерное оружие в Семипалатинске. Начало Разрядки: секреты Женевского совещания 1960 г. из первых уст. О преподавательской деятельности Г.Л. Шнирмана (00:13:09 – 00:19:24)
Короче говоря, когда мы приехали сюда [на Космодамианскую], приехали первый… – мы переехали в конце апреля [19]48-го года. Папа в это время был на полигоне в Семипалатинске. Мы, конечно, не знали этого. У нас это называлось «Лимония». [прим. – Лимонией иронически называли ГУЛАГ и места заключения. Строительство Семипалатинского испытательного полигона было начато ГУЛАГом в 1947 г.] Мама нам сказала, когда папа так стал туда ездить, в командировки, это было совершенно секретно до… до уровня расстрела, понимаете? Год, время такое, понимаете?
Кстати, ме[жду про]чим, американцы даже не знали об этом! И они были уверены, что [19]51-й – 52-й год взорвут бомбу. Мы взорвём. А мы взорвали в [19]49-м. Это благодаря папе, потому что он за такое время такое количество приборов сделал, чтобы всю автоматику взрыва, все слежение приборов, он камеру изобрёл потрясающую, которая фотографировала всё это, 33 миллиона кадров в секунду. В общем, он такие там чудеса делал, совершенно фантастические.
И кстати, ме[жду про]чим, вот сейчас это скажу, потому что это очень важный момент. Для меня (может, это и не войдёт в историю вашего проекта, но вещь, конечно, замечательная): он ускорил – о роли личности в истории – он ускорил время, так сказать. Потому что бомба была давно сюда переведена замечательными немецкими учёными. Всё, потому что все понимали, что невозможно, чтобы один, одно государство владело бы таким страшным оружием. И поэтому нам сюда были… Мы особенно не воровали, нам, в общем, это практически прислали. А приборы делал все папа. Там очень много нужно было, потому что это взрыв, там, слежение…
Так вот, в [19]49-м году 29-го августа произошёл взрыв на вышке в Семипалатинске.
А в [19]60-м году была… были… как это называется? Государства решили – Соединённые Штаты Америки вообще и Европа тоже – решили устроить такой междусобойчик крупный по поводу запрещения атомного оружия. Мы приехали, и мы были готовы к этому. Мы. Потому что [усмехается] был готов, потому что папа сделал… Американцы не хотели делать, они говорили, что нельзя… Почему? Почему они не хотели подписывать вот такой договор о запрещении атомного оружия? То есть тогда испытаний. Потому что до этого… [прим. – Переговоры о запрещении испытаний ядерного оружия начались ещё в 1958 г. Рассказчик упоминает серию заседаний Консультативной группы, которая проходила в мае 1960 г. в Женеве. Одним из научных экспертов переговоров как раз являлся Г.Л. Шнирман.]
Не было места, где бы папа не испытывал атом[ное] это оружие. Сначала это было на вышке, потом они с самолёта сбрасывали где-то. Потом они, он ездил на землю, Новую Землю, и там тоже это делал. Потом он в подводных лодках работал, и там тоже это делал. Потом он на кораблях это делал. Это, Вы знаете, это что-то необыкновенное, что он нам… А он потом рассказывал… Но он подробности не рассказывал, он просто рассказывал: как устроена подводная лодка, там, как айсберги, на которых его на самолётах там возили на Нов[ую Землю.] И так далее.
И в [19]60-м году Вашингтон и Женева была в один приём, там, несколько, они месяц – полтора пробыли. Американцы сказали, что нельзя запретить, потому что нет обратной связи: нет возможности отследить, взрывает это государство (взрываем мы, например. Там конкретно речь о нас). Ни у кого тогда не было этого оружия. И поэтому они сказали, что отследить нельзя, это… «Вы будете говорить, что это землетрясение, а на самом деле это…»
[Это испытание.]
Да. Папа сказал: «Нет. Можно это отследить», – и предоставил (он был готов уже к этому). [прим. – Одной из главных тем обсуждения Женевского совещания 1960 г. стал сейсмический метод обнаружения ядерных взрывов.] И тогда сказали, они сказали: «Доложите». И папа на следующий день сделал доклад там. И представил – а там была делегация наша и была делегация американская. В нашей делегации были учёные, которые, собственно, с бомбой. [Несколько] прибористов было. Потом был один человек, который высказал впервые эту мысль, что это можно отследить, но папа это [усмехается], папа это сделал, как говорится. Хотя он тоже так считал. Но тот это как-то доказал, хотя он был очень слабый математик, но тем не менее, он геофизик был, вот так.
И когда папа сделал этот доклад, уже представив этот самый – там не прибор, а там такой, знаете, аппарат такой, небольшой (знаете, как слежение бывает температурное, вот такое, не один прибор, а несколько). Вот так же там было. И он рассказывал.
А он был блистательный совершенно… не только блистательный, вообще был блистательный человек в чём-то. Удивительно скромный. Он удивительно хорошо рассказывал. Я общалась потом с его студентами, которым он плюс преподавал, потому что не было специалистов в этой [области.] И он своё вот это самое на физтехе, в инженерно-физическом, ещё там, в Университете, ещё в каком-то месте на пятых курсах преподавал, чтобы были люди, которые могли… И они говорили… Ой, они все его «шеф» называли: «Ой, – говорит, – а нам твой папа…» – я потом сталкивалась с этими людьми, которые… (но они были старше меня, конечно, значительно). Говорит: «Он был так, он такие лекции читал, он так читал, он был потрясающим ле[ктором]!»
Он прочитал [доклад] – и американцы согласились. Потому что там у них тоже были в этом, в их делегации были, естественно, прибористы тоже (было пару прибористов), были учёные, и там были дипломаты и ФБР. А у нас было двое КГБшников там тоже, естественно. И самое сме[шное]… папа говорит: «Самое смешное, что… Мы зна[ли.] Я, – говорит, – это не интересовался, но наши знали, кто там не имеет отношения к этому, а имеет отношение к совершенно другому ведомству». Но и они [про наших КГБшников] знали! И поэтому на всех приёмах, например, они подходили обязательно к этим КГБшникам – вот так вот, чтобы – и начинали их расспрашивать про всякие… давать им такие научные [советы], такие подвохи делать, спрашивать. А они же ничего в этом не понимают, вообще!
Короче говоря, папа как-то раз – он был удивительно скромный человек – он сказал: «Ну что, – говорит, – я, – говорит, – эту бомбу взорвал, а я же её потом и закрыл». И он её закрыл. В [19]60-м году это было.
[Да, это здорово!]
Да… И он очень… Это было его… Это было действительно предметом гордости, потому что это геополитическая вещь, а не такая…
Об одноэтажных домиках и земле под ногами на Космодамианской набережной в 1948 году. Мужская и женская школы. О брусчатке в Замоскворецком районе. Маленькие магазинчики и покупка любимых леденцов, осыпанных какао. Как менялась набережная в 50-е и 60е гг. (00:19:24 – 00:25:16)
Теперь об этом, о [Космодамианской] набережной.
Когда мы сюда переехали, папа перевёз нас на нескольких машинах и умчался туда, [на испытательный полигон.] Потому что ему пришлось вырваться на пять дней, потому что маме бы просто это не осилить, переезд. И уехал туда работать, потому что он там всё время работал. На полигон уехал.
И мы… Ну, что делают нормальные дети? Мы тогда – мне было одиннадцать лет, Анночке было девять. Мишенька не в счёт, ему тогда было четыре… три с половиной года, там, девять с половиной. Вот так, половинки не будем считать. [Смеётся.] Эллочке было четырнадцать, мне одиннадцать, Анночке было девять. Мы пошли смотреть ареал обитания.
И дальше… Значит, набережной не было, вообще. Не было… Вот так вот. Т.е. она… Она существовала в виде земли, вот ужасной глины, ям, чего-то… И вот здесь, под нами, прямо под окном здесь стояло четыре маленьких домика. Там были два, по-моему, одноэтажных, два двухэтажных. Потом через год, когда их сломали, у нас… к нам полезли клопы и тараканы. Это был такой кошмар! Они у нас ползали вот так вот, это был ужас! Но тем не менее, мы были сча[стливы.] Не было вот этого вот гранита, не было вот этого окай[мления набережной] – ничего не было! И ходить было очень трудно, особенно зимой. Но все ходили…
У нас тут две школы. Если из той квартиры – вы там увидите тоже снимок, в этой [книге] – там ближняя женская школа, до неё дойти одну минуту от нашего подъезда. [прим. – Рассказчик говорит о школе №626, которая находилась по адресу: Садовническая ул., д.68. Сейчас здание относится к ГБОУ Школа №1259.] И там был проход на Осипенко, на ул[ицу] (на Садовническую сейчас). Она тогда была улица Осипенко, называлась. А втора[я школа]… а напротив этой, чуть-чуть смещённой направо, была мужская школа, [прим. – Возможно, рассказчик говорит о здании нынешней коррекционной школы ГБОУ №1406, которая располагается по адресу: Садовническая ул., д.57Ас1.] понимаете? Так мы туда… И по этой улице была брусчатка. Нас это… Нам это было как-то очень неприятно, мы привыкли к такому асфальту, знаете, а тут…
И ходил трамвай: ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды! 48-й трамвай, он ходил так, заворачивал у нас на кольцо и останавливался около метро «Павелецкая». Против… Довольно быстро, потом довольно быстро сделали. Сначала не было вот этой кольцевой, а сначала была только радиальная.
И мы, наше резюме было такое… Были на Осипенко были все магазины: была булочная отдельно, был магазин отдельно, была сберкасса, была аптека, была почта, – т.е. всё было. Но всё было такое маленькое, такое какое-то такое несчастное, как нам казалось. Но когда мы вошли впервые в магазин на улице Осипенко, прямо вот напротив как бы Зверева – там был Зверев переулок [прим. – Сегодня Садовнический переулок.] – нет, мы вот тут вышли, и чуть-чуть там свернуть надо, и были эти все магазины. Я говорю: «Давайте пойдём в магазин».
Пошли в магазин. Я смотрю: у девочек очень несчастный вид. Я думаю: «Наверное, я тоже [выгляжу несчастно.]». Я смотрю на старшую сестру, она так схмурилась. И я вижу там лежат вот в такой – знаете, вот такие вот эти, вазы, в которых конфеты – лежат такие леденцы, они осыпаны какао. Вот такие леденцы в какао. Я говорю: «Ёлка, смотри, это т… – а Ёлка их очень любила. Я говорю: Смотри, твои любимые». У неё так глазки заблестели, потому что это что-то уже родное, потому что, понимаете… И мы купили этих леденцов, потом пошли… Всё посмотрели, потом вышли на набережную, тут уже поскорей побежали домой.
И дальше, сидя в своих [кроватях] – у нас уже там были три кровати – мы сказали друг другу, что квартира прекрасная, а место ужасное. [Усмехается.] Вот это место, оно… Мы его называли «ужасным».
И мы так вот жили [19]48-й, [19]49-й, [19]50-й, а в [19]51-м году здесь сделали набережную. И посадили деревья. Нет, это деревья – это всё… Потом, когда всё выросло… Вот всё, что у меня есть. [Показывает фото.] Это вид напротив. [см. фото: Zamoskvorechie_ShNG_semeynie_foto.pdf фото 5] Из окна, из балкона, то, что… Это вот сейчас Вы увидите, потом Вы можете посмотреть… Вот этих домов, ничего вот этого [нет.] Вот только этот дом есть и этот. А вот тут уже построено ещё три дома. Вот три дома построены сюда, понимаете! Этих тоже домов нет. А этот переулок всё существует остальное. Это вот.
Теперь, теперь посмотрите, какая набережная, когда… это уже [19]60-е годы, когда деревья разрослись. [см. фото: Zamoskvorechie_ShNG_semeynie_foto.pdf фото 2] Вот эта набережная, вот Краснохолмский мост, а это вот этот дом, последний, который тогда и стоял уже. Вот. И наша набережная была тупиковой. За Краснохолмским мостом ничего не было больше. Там были какие-то пустыри, какая-то дребедень, свалка какая-то. Поэтому наша набережная – по ней можно было посередине гулять и чуть ли не в футбол играть. А машин тогда не было! Вы понимаете! И это было просто вот что-то какое-то… Вот речные… вот речной трамвайчик. [см. фото: Zamoskvorechie_ShNG_semeynie_foto.pdf фото 4]
Это [19]48-й. [см. фото: Zamoskvorechie_ShNG_semeynie_foto.pdf фото 5] Вот это [19]48-й. Это именно [19]48-й год, это там вот, вид напротив… К сожалению, потом я… у меня есть где-то ещё, снимок был тоже [19]50-х каких-то годов, но там… Вот, она уже выглядела с [19]51-го года вот так [см. фото: Zamoskvorechie_ShNG_semeynie_foto.pdf фото 3], только это тут стоит моя племянница маленькая, Надюша. Видите, вот тут дом [прим. – Рассказчик показывает сталинскую высотку на Котельнической набережной.] видно, этот самый. К сожалению, у меня больше снимков нету, но я постараюсь найти ещё.
О качестве и вкусе отделки квартир послевоенного времени. Гордость или неловкость перед подругами из коммунальной квартиры? Кто такие «Люди в почтовых ящиках»? (00:25:16 – 00:31:09)
Дом этот строили пленные немцы. Вот этот, наш дом. [прим. – На Космодамианской набережной.] Строили его пленные немцы, и, надо сказать, что отделкой вот в этой квартире и в той квартире занимались совершенно разные [люди.] Эта квартира была отделана немцами. А вот та квартира была отделана нашими – и это была огромная разница! Понимаете, две оди[наковые], на одной площадке… Эта квартира была… Представьте себе, что очень такие приятные для глаза [цвета.] Во-первых, цвет был такой приятный очень для глаза. Там [в другой квартире] были такие жгучие, такие ядовитые [цвета.] [Смеётся.] Клеевая краска, не обои. Потолки у нас 3,30. 3,30. Небольшая лепнина везде вот такая вот. Небольшая лепнининка была, и вот этот потолок, видите, вот такие вот. Они всё-таки… довольно приятно вот это сделано. Это всё сохрани[ли], это когда делали ремонт у нас.
У нас однажды только был здесь ремонт, такой капитальный, в [19]73-м году, в доме. И они повторили тоже эту лепнину, они её не тро[нули], и вот это всё оставили. Они это не трогали, они просто побелили это.
А там была, в столовой, там – столовая-гостиная, там рояль стоял, всё это – там были очень интересные… очень было интересно отделано. Очень скромно. Были такие вот квад… не квадраты, а такие… прямоугольники. Двойной такой… Одна, один… Одна тоненькая линия, прямоугольник большой, как… вторая отступила, другого немножко цвета, например, голубая – жёлтая, такое вот соединение. И было ощущение… Это было всё вот-таки… Причём они были примерно вот такой ширины, метра полтора. И от пола до потолка. А под потолком, вот под этим потолком, всё-таки он немножко уже такой, с идеей лепнины – под ним была пущена вот такая лента, как бы лента нарисованная, замечательная! Тоже с такой филёночкой, такой голубой. А там были колокольчики с жёлтыми цветочками и с этими… Это было очень красиво, это было сделано очень хорошо. Так была отделана. Всё остальное было такое, вполне…
Но по тем временам, когда люди жили в коммунальных… У меня среди моих подруг школьных не было ни одной приятельницы – ни в одной школе (и [в первой, ни] во второй, ни в музыка[льной]) – где люди бы жили в собственных квартирах. А мы жили на Мещанской [улице] в своей квартире только благодаря тому, что перевели из [Ленинграда.]
И даже нам (нас не могли, потому что большая семья) – там, где был один ребёнок, там умудрились тоже коммунальные сделать квартиры, т.е. поселить, в двухкомнатной квартире поселить две семьи. Понимаете? У меня одна знакомая там [на Мещанской улице], приятельница по дворовым играм, такая Лена была. Я стучала в стенку и кричала ей (мы жили на третьем этаже). Я кричала: «Лена! Я сейчас приду!» Она мне тоже отвечала. И мы спускались и играли там во дворе.
Двор был очень такой… большой, в общем. Там можно было играть, и было в общем хорошо и нормально. Здесь, кстати, двор был такой совершенной маленький, неинтересный. Вот здесь, когда мы приехали [на Космодамианскую набережную], мы сразу перестали – потом уже была другая, поскольку мы все занимались в музыкальных школах – другая была занятость совершенно, понимаете? И уже этого ничего не хотелось.
Но когда люди приходили, мои приятельницы, я всегда чувствовала [себя неловко.] Потом иногда чувствовала какую-то неловкость даже, потому что у них… Они говорят: «А как же? А это что?» Я говорю: «Это…» Ну, там неважно что. Предположим, три человека в семье. Но они живут в комнате. А в соседней комнате… Там двух-трёхкомнатная квартира. Моя сама близжая подруга, у них там… Она жила на улице Бахрушина.
Это я уже пошла здесь в школу, в 528-ю. [прим. – Школа №528 существует и сегодня. Учебное заведение всё также располагается по адресу: 1-й Новокузнецкий переулок, д.12а.] И она была довольно [далеко] от нас… Пятнадцать минут мы ходили. Это… В этом возрасте это не проблема, это большое развлечение. Там такой мостик был горбатый, симпатичный. [прим. – Рассказчик говорит о Зверевом мосте.]
Короче говоря, она жила… А мы с ней очень… Она у меня [часто бывала.] А я часто бывала [у неё.] Она очень рядом, близко от [нашей] школы жила. Близко, практически напротив кинотеатра «Моссовета». [прим. – Сейчас кинотеатр «Пять звёзд» на Павелецкой.] На улице, [где] сейчас Бахрушина музэй там. [В квартире у подруги] четыре комнаты было на шестом этаже. Очень хорошо, так сказать, каменный дом, хороший, всё-всё. Их было там четыре семьи! И бедная…
А её мама, совершенно чудная женщина, такая милая, такая добрая, какая-то… Светлый человек. Она была пианисткой. И она занималась, где-то аккомпанировала, где-то там в балете, где-то там, там, там, бегала всегда по этим ур[окам], потому что платили всегда очень мало.
Тогда были очень нищенские зарплаты. Тогда, по сути говоря, хорошие деньги получали только военные и люди в этих, почтовых ящиках, так называемых. Вы знаете, что такое «почтовый ящик», нет?
[Это военная часть закрытая?]
Нет, это не только военная, это как правило, секретность, в общем. Секретные разработки. Там работали люди не военные, но там обязательно такие были секретные разработки. Это называлось «почтовый ящик такой-то».
Так вот, там были хорошие зарплаты. У научных работников, у папы была очень хорошая. Потом, до этого мама, мама так, всегда жаловалась. А вот когда папа пошёл туда, у нас появились всё-таки какие-то деньги. Они были не какие-то, но мама могла книжки покупать. Она покупала нам абонементы в консерваторию, мы ходили всегда в театры, всё это стоило [недёшево.] А поскольку четверых детей надо просто одеть, и хоть бабушка… Но тогда ничего не было. Но бабушка перешивала, и был какой-то материал. В общем, это всё…
Как и зачем заниматься физкультурой в домашних условиях. О мудрой маме. О «Вороньих слободках» и условиях жизни в послевоенные годы. Люди науки или люди в погонах в качестве соседей? О кондитерском цехе с царских времён и людях, которые сами пекли хлеб (00:31:09 – 00:41:57)
Но это уже совершенно к набережной отношения не имеет. А с набережной такие отношения были.
Сначала это было просто «ужасное место», набережная Горького. И когда там ходили... Я даже помню, что… Я пошла в 528-ю школу… Я сейчас рассказываю это к тому, что… Вы поймёте.
Там, [в 528-й школе], у нас была физкультура. В школе в 609-й [прим. – Возможно, рассказчик имеет в виду нынешнюю школу №2107, расположенную по адресу: ул. Большая Переяславская, д.1, стр.1.] где я училась на Безбожном переулке [прим. – В 1992 г. Безбожному переулку вернули историческое название Протопоповский.], где трамвай ходил. От нас было тоже минут, двенадцать минут ходьбы (от нашего дома, на Мещанской [улице]). Там не было физкультуры, а тут, [уже впоследствии, в 528-й школе] была физкультура. А я была очень спортивной такой!
И папа… У нас была трапеция, папа в антресолях сделал такие вот, и она… Два узла. Можно было её поднять, покачаться на ней. Я с Анночкой: брала Анночку, так сажала её, мы вместе с ней качались. Потом папа меня научил подтягиваться. Я, значит, стала подтягиваться, и он мне говорил, что… А папа меня всегда называл Мартышкой. Мартышка, вот. У этого была своя история, но это уже другое дело. Значит, ещё был… И папа говорил так: «Ты попроси маму или бабушку, они тебе сделают повыше, и подтягивайся. Это очень хорошо».
А дело в том, что я очень… в детстве у меня был очень тяжёлый момент. Я болела воспалением лёгких. Всё время. У меня было десять воспалений лёгких от года до десяти. Подряд! Потому что воспаление лёгких имеет тенденцию: если оно появилось, оно… дальше нет к нему иммунитета, а дальше это… Но не болела детскими болезнями. Вот только этим болела.
Кстати, мама замечательно как-то… Я этого не помню, но я даже врачихе сказала, которая как-то к нам приходила (очень была глупая такая, такая, несчастная, глупая женщина). Она спросила: «А чем ты болела?» Вот, я говорю: «Я ничем не болела, – я говорю, – только…» После, это было после эвакуации, это было ещё на той квартире. А говорит: «Как ты, – говорит, – ничем не болела? А вот ветрянка у тебя была, потом вот у тебя было… Хорошо, – говорит, – у тебя было десять воспалений лёгких! Ты, – говорит, – сколько…» Нет, мне тогда было семь лет, тогда, значит, у меня было семь воспалений лёгких. А я говорю: «А воспаление лёгких – это не болезнь». Она говорит: «Как?!» И у неё было такое какое-то испуганное, растерянное выражение лица. [Усмехается.] Тогда я, мне стало её жалко, я ей пояснила. Я говорю: «Воспаление лёгких – это когда холодно, оно приходит. А потом оно уходит. И всё». Я не считала это болезнью.
И у мамы ещё была одна замечательная совершенно примочка [усмехается.] Она была… Я не знаю, как с девочками, но со мной это было замечательно: я не знала, что такое хорошо и плохо, я знала правильно и неправильно. Когда папа говорил, что: «Мартышка, ты плохо себя ведёшь!» Я думала: «Что? Про что он говорит?» Мне было три года. Я не понимала, о чём речь, и вообще не обращала на это ни малейшего внима[ния.] Для меня вот было…
Мама была для меня абсолютным, так сказать… как бы… Вот это было как день и ночь, понимаете? Вот, я уже тогда это понимала, что это было… И я была рада её слушать, я с ней очень… Иногда спорила, но очень редко. Я пыталась прояснить какую-то ситуацию там, почему вот так, а не… Мама мне всегда это зам[ечательно]… Она никогда не повышала на меня голос. А я иногда прибегала, говорила: «Мама! Что такое, почему так?!» [Стучит кулаком по столу.] А она говорила: «Так, Нинуша…» Она мне говорила так.
Я обнаружила, что в общем, вся страна (потому что мы приехали…) была в совершенно жутком состоянии с точки зрения жилья. Да, потому что даже если в Москве… Но в Москве люди хотя бы имели даже в этих домах в каких-то (там, где они жили, в больших каменных домах) там были Вороньи слободки, буквально, понимаете? Знаете, что такое «Вороньи слободки»?
[Нет.]
Сейчас скажу. Это… Ильф и Петров, это… я не помню, по-моему, это… Не в «Двенадцати стульях», а в «Золотом телёнке», по-моему. Там один из героев жил в вороньей слободке – это двадцать с чем-то комнат, понимаете? Это вот такой длинный коридор, и комнаты, комнаты, комнаты, комнаты. Это называлось «Воронья слободка».
На самом деле, как потом я выяснила, это было в конце бульвара… Чистопрудный… потом уж забыла, какой бульвар. В общем, внизу там – это были публичные дома в своё время. [Смеётся.]
И там, и уже в [19]70-е годы там жили приятели наши. Так вот там в [19]70-е, в [19]69-м году я застала там семью, я пришла, там была: мама, папа (это были Миши, друзья моего мужа, с которым мы только что поженились) и ребёнок маленький, Танечка. У них было две маленькие комнатки, потому что они там сдали что-то. И у них было две маленькие комнатки. Одна была проходная, значит, так. И дальше там было ещё двадцать комнат. Двадцать комнат! Когда я пришла, у меня… вот, понимаете? Это был [19]69-й год. Представляете себе, какой, что, как же…
Бараки были! Потом жили в подвалах: где окна вот так вот выходят. Т.е. понимаете, туда свет почти не попадает, это…
И поэтому вот эта квартира – это были хоромы. Это была не квартира – это были хоромы. Потому что у нас получилось: пять комнат, два санузла: две ванны и две уборные. И кухня. Кухни были, правда, маленькие, неважные, по 8 метров они были. Сейчас кухни… Сейчас… вообще не будем сравнивать со сейчас. [Смеётся.] Это да, бесполезно. Но по тем временам это всё было потрясающе просто. Понимаете, это были хоромы.
Набережная начала в [19]51-м году… [19]50-й – [19]51-й её сделали. Дома снесли вот эти вот. Сделали вот так, вот тут посадили деревья. Потому что наш дом вдаётся немножко, Вы обратили внимание, вот так, вот так и так [рисует букву П на столе.] Вот так, такая буква. Посадили деревья, потом посадили кусты. И это всё возрастало, потом стало вот так, потому что там было… Тут были деревья, и вот там, где Вы сейчас шли, по тротуару: он всегда существовал, вот этот тротуар. И был тротуар около всегда… [он и] сейчас существует – около воды. Но около воды – там были деревья большие и большие кусты. И [ты] там ходил, как в лесу. Вот начиная от Краснохолмского моста до Штаба военного округа. У нас тут Штаб военного Московского округа есть. [прим. – Речь идёт о здании Кригскомиссариата, которое располагается по адресу: ул. Космодамианская набережная, д.24с.1. В Советское время здесь находился штаб Московского военного округа.] Вот ходили, мы там гуляли, понимаете, потому что это была прогулка буквально. А машин не было, поэтому такие бы деревья очень быстро бы дали дуба [усмехается], потому что выхлопные газы – это смерть для деревьев. Они… Вся передняя линия, которая существует в каких-то… Дачные посёлки: где-то там, где посажены близко от этого [дорожного полотна] – они все гибнут, эти деревья, когда… Потому что большой поток машин.
Вот у наших друзей близких, они на третьем этаже жили там, был отец генерал…
Домик у нас оказался довольно паршивый с точки зрения контингента. Тут всего несколько квартир дали учёным. В основном всем… (Несколько [человек] с атомного проекта, которые рядом были, это… В Москве тоже этим занимались – дали восьми, по-моему. Восемь, семь или восемь человек [из учёных получили жильё]). Всё остальное – это были: аппаратчики ЦК, ГБ, генералы там всякие.
Но вот мы познакомились с очень забавной семьёй. Очень забавно познакомились. Когда мы сюда переехали, брату было три с половиной года. И вот мы сразу же уехали на дачу – на первую дачу, съёмную. В какую-то деревню. Там далеко. Там тоже я поняла – вот тогда я поняла, как ужасно живут наши люди. И я помню, что я сказала. Мы жили в такой избе, и я говорю: «Бабушка, а почему они цветочки не посадят около?» [Смеётся.] Это [19]48-й год. Бабушка говорит: «Деточка, а когда же им это сделать? Ты посмотри, как они живут. У них рядом даже магазина нет». Магазин за 6 километров от деревни – значит, они живут своим вот этим хозяйством. Что-то покупают – ходят [один] раз к какому-то времени. Они пекли хлеб. И вот я помню, думаю… А для меня хлеб – это было, я обожала, у нас ведь…
Кстати, ме[жду про]чим, в России, вот в Советском Союзе, мало было, очень мало было чего хорошего. Было что-то ужасное. Но был чудный, был очень хороший хлеб, и был прекрасный кондитерский цех. (Прекрасный шоколад, потому что всё это осталось от царских времён. Все фабрики – они здесь были тогда, сейчас их убрали там куда-то, но все фабрики – и Ротфронт, и Бабаевский – всё это, это всё были старые замечательные, российские кондитеры. Такие семейные, потрясающие. Я о них читала много, это замечательные люди, которые прямо жили вот этим. Они столько сделали… И вот этим [Советским руководителям] оставалось только не испортить вот это – и они не испортили. Этим занялся Микоян. И они не испортили это – вот это было поразительно!) Значит, у нас был кондитерский цех хороший, мороженое и хлеб очень хороший. Всё остальное у нас – остального у нас просто не было ничего. Не было ни мяса, ни молока, фруктов не было вообще. Мы не знали, что такое фрукты вообще. Потом появились какие-то страшные сухофрукты, они появились потом. Кстати, до [19]47-го года были же карточки! Карточки отменили только в [19]47-м году.
И я в [19]48-м году уже, я помню, я бабушке сказала. Она говорит: «Деточка, они же даже хлеб дома пекут!» У них вот печка большая такая. Бабушка в этой печке готовила нам в таком маленьком чугунке гречневую кашу, которую я почему-то невзлюбила тогда. Поскольку мы очень голодали в эвакуации (мы попали в жестокий голод там), то я ела [всё, что дадут.] Всегда хотела есть и, в общем, ела всё, что… У нас никогда не было, вообще, дома не было… Маму спросили: «А как же так, у вас четверо детей! Они же все... Как же вы их кормите? Что они у вас едят?» Мама говорит: «Они едят то, что им дадут». [Смеётся.] У нас абсолютно не было никаких капр[изов.] Что такое капризы? Кормят… А бабушка замечательно готовила. Даже не в этом дело. Просто вот, постановка в семье, что такое – четверо детей. Что, каждому готовить любимое блюдо? Это смешно!
Как занимались физкультурой в школе в послевоенное время. Сложно ли было попасть в секцию по плаванию? Тренировки для детей в 7 утра и 11 ночи или поездки в метро с мокрой головой. Как совмещать оркестр и плавание (00:42:00 – 00:51:38)
И на набережной, здесь на набережной, в течение: [19]48-й, [19]49-й, [19]50-й было совершенно невозможно ходить, потому что ты проходил мимо этих домиков. А дальше вот так тропинка такая, небольшая. Машины тут проехать не могли, машины проезжали с Садовнической [улицы], когда был [сделан] этот проезд.
И я помню, что, когда я сюда приехала, у нас здесь оказалась физкультура. Это был такой восторг! Я была главной помощницей нашей физкультурницы. Девочки, бедные, у них же не было таких возможностей, как у меня. Потом мама показывала мне какие-то упражнения, что-то такое, я крутилась…
[А мама у Вас кто?]
Мама была… Мама не закончила, к сожалению. Война помешала, дети, всё, она на физфаке училась. Но вообще она была, конечно, гуманитарным человеком и, в общем, ей это было не нужно. Потом, Вы потом почитаете, она в детстве, она ещё в балетном училище занималась… В балетном…
[У меня и возникло впечатление…]
А Вы какую книжку сейчас читаете?
[Первую.]
Первую. Ну да, просто «Счастливая девочка». А это будет во второй книжке. И я всегда… А урок [по физкультуре] всего сорок пять минут [длился.] А там столько снарядов! И турник, и это, и кольца, и прыгать можно через козла, и на матах кувыркаться! Но всё надо делать, чтобы делали это те тридцать три – тридцать четыре человека, которые, бедные, ничего не умеют делать. Потому что нас только два или три человека что-то умели делать. Но я там была вообще у них, это, знаете, как это… олимпийская чемпионка, потому что… Потому что я дома жила сразу в других условиях. И со мной занимались этим: папа занимался, мама, и я… Потом я была к этому очень приспособлена.
У мамы была очень хорошая моторика, великолепная. Кстати, мама замечательно играла на рояле.
И преподавательница меня страшно полюбила. И на следующий год, уже когда мы были [постарше], (я попала сюда в пятый класс). В шестом классе она вдруг ко мне вечером подходит и говорит: «Нин, скажи, пожалуйста, ты бы не хотела плавать?» А я не умела плавать. Я говорю: «Конечно, хотела бы!» Нет, я научилась плавать в первом году. [прим. – Вероятно, имеется в виду 1941-й год.] Но по-собачьи я плавала. Я понимала.
Папа рассказывал, что в Ленинграде был бассейн. Его туда устроил его старший брат, который был старше его на шестнадцать лет. И их учили – папа брассом плавал. Кстати, очень хорошо плавал – на табуретке. И папа рассказал мне все виды: кроль на груди, кроль на спине, баттерфляй и брасс – вот эти стили. Он говорит: «Мартышка, а хочешь, я тебя научу брасс?» Я говорю: «Нет, пап, брассом мне не нравится, я хочу кролем плавать». Он говорит: «Ну, тогда…» Значит, вот. Да.
А тут она мне вдруг (буквально у нас был полгода назад разговор) когда мы ехали на дачу, на первую дачу свою съёмную ехали.
Мы, кстати, в поленовских местах жили, там потрясающий лес, совершенно, ничего похожего на то, что сейчас. Такое как, знаете, какое-то божье место! Место, где бог всё устроил, там всё так гармонично, вокруг большие деревья, маленькие деревья, кусты, орешник, малина! Понимаете? И никаких сорняков! И никакого вот этого сушняка. И вот только пенёчки, которые уже, ты на них тогда сидишь, а их давно уже срезали, они уже потемнели. Потрясающий совершенно лес!
А теперь вернёмся к бассейну. И вот, она мне говорит: «Ты не хочешь плавать?» Я говорю: «Валентина Ивановна, конечно, очень хочу!» Она говорит: «Знаешь, ты спроси у родителей». Мне двенадцать лет. Или мне тогда ещё не было двенадцати? Да, не было ещё двенадцати. Короче говоря, я пришла и говорю: «Я хочу плавать». Папа пришёл в восторг. Мама говорит: «А ты знаешь, какое там расписание, в смысле?» Я говорю: «Нет, ничего пока не знаю». Она говорит: «Вообще, плавать – это замечательно». Она меня берёт и ведёт туда.
И вот, происходит такой замечательный облом, первый сначала. Потом я там плавала очень хорошо, но… Ко мне подходят три человека, трое мужчин таких. Спортивные люди – они очень все такие достаточно суровые. Правильно, это понятно.
А я была жутко худая, я… Т.е. одни рёбра были. Я ещё не успела к, вот этому, [19]49-ому, я ещё не успела даже набрать, не могла. Организм не позволял, я не могла много съесть. Я часто ела. Всегда хотела есть, но много съесть не могла.
Один подходит, слушает меня. Но у меня, конечно, там ужасные [звуки.] Потому что у меня там было очень много уже очагов: этих, не туберкулёзных, а этих, оставшихся. Они же дают эмфизему лёгких уже в детском возрасте. Он меня слушает… И смотрит так на неё. И говорит: «Слушай, Валь, ты кого, кого нам привела?» Вот я прям вскипела от бешенства! Меня так… Но я сижу, потому что я человек воспитанный. Я сижу и вздулась просто от негодования. Как! Что такое? «Кого я при[вела]!» Подходит ко мне второй, берёт… А тогда же не было фонендоскопа, тогда же были такие… деревянные дудки. Вы, конечно, их не за[стали.] Это вот такая вот штука очень интересная. Сейчас я Вам наисую. [Рисует. см. фото: Zamoskvorechie_ShNG_mental_maps.pdf] Вот такая дудка деревянная, только она вот… вот такой вот длины. Вот это приставляется к человеку, вот этим, большим. А вот это вставляется в ухо. И так слушается. А этой дудкой, вот этим [узким концом] – мне уже делали так – они чертят тебе по груди вот такую сетку. Вот так вот [показывает], это такой тест, тогда был… Всегда же, во все времена были какие-то тесты, с точки зрения здоровья, такие общие. Принятые. Это был простой тест на состояние… на крепость, так сказать, нервной системы. Они чертили довольно так сильно тебе – не больно, но так, нормально – сетку вот такую вот: так пять и так пять, примерно. Это сразу краснело. И они смотрели, как это исчезает. Если это быстро исчезает – человек крепкий, здоровый, у него хорошая нервная система, на нём можно возить воду. И вот…
Но у меня, конечно, не исчезало это быстро. [Смеётся.] Этот говорит: «Валя, это что такое?» Третий так на меня посмотрел, и ушёл, и сказал: «Валя!» – ей. Просто. Первый сказал: «Кого ты нам привела?» Этот сказал: «Валя, это что такое?» Я… Они ушли. Она ко мне подходит и говорит мне: «Ниночка, ты не расстраивайся, ты будешь плавать!» Я говорю: «Ну!...» Она говорит: «Не волнуйся».
Короче говоря, через неделю буквально, через несколько дней она [прим. – Учительница физкультуры.] мне говорит: «Слушай, попроси, пожалуйста, у своей мамы и у папы… У нас…» В Советском Союзе – всё же лучшее детям. А тогда в Москве был один бассейн, на Семёновской. [прим. – Вероятно, речь идёт о ГБУ «Московский Олимпийский центр водного спорта», который и сегодня располагается в районе ст.м. «Семёновская».] Один бассейн. Это был [19]49-й год! Всего. А оказалось потом… Почему она меня туда? Потому что она была там, она была уже… как бы стремилась наплавать на мастера спорта. Она была перворазрядницей в команде ЦДСА. Там была группа молодёжная. И там они хотели создать детскую группу, потому что надо же растить детей. Смену надо растить. Вот она меня туда привела. И она сказала мне: «Ты скажи только, что это будет поздно». Я говорю: «Когда поздно?» Она говорит: «Ну, время…» [Смеётся.] Вот, всё лучшее – детям в Советском Союзе.
Три раза… мы тренировались тогда. Дети тренировались три раза в неделю. По часу. Два раза в неделю, на неделе – с 11 до 12 ночи. Дети. А в воскресенье – с 7 до 8 утра. Т.е. всё самое плохое было для детей. Когда мама это узнала, она сказала: «Нет, я против, чтобы ты… Ты же будешь, ну как, ты же потом в школу идёшь, как так, ты придёшь в 12 часов…»
[В 12 ещё и не придёшь, только закончишь!]
В 12 только заканчивалось, но я приезжала домой. Но я очень… Я ехала с мокрыми волосами, я вот так… Потому что у меня косы же были, длинные, длинные. Косички же были, и я вот так вот полотенцем их выжимала и дальше… Когда я ехала, я так прижималась к этому… от «Семёновской» ехала с пересадкой. И вот так я это самое. И когда спиной чувствовала: там у меня по спине текла вода, тёплая! Тёплая вода! [Смеётся.] Мне это всё очень нравилось.
И вот дальше, как-то раз, когда я шла здесь зимой…
Да, мама была очень против. А папа её уговорил. Это было всегда обратное. Всегда мама уговаривала папу, потому что папа у нас был большой запретитель всяких [инициатив.] А мама всегда была очень демократи[чна.] Но тут она очень… Папа говорит… Говорит: «Вака, Вавочка, – говорит, – ты не представляешь себе, какая это польза для здоровья! Для неё, с её лёгкими – это просто подарок!» – он говорил. В общем, короче говоря…
А я в это время ещё училась в музыкальной школе. И у нас в воскресенье был оркестр – я должна была на него ходить. А я училась на скрипке. Мама говорит: «А как ты будешь ходить на оркестр?» Я говорю: «Мама, не волнуйся, я буду один ра[з]… одну неделю ходить… два раза ходить туда, один раз ходить на оркестр, а один раз в бассейн».
О том, как маленькая девочка везде ходила одна, что было в порядке вещей. О глубоких ямах на Космодамианской набережной. О занятиях в бассейне на Семёновской. О грамотном тренере и тренере-заложнике советской системы (00:51:40 – 01:01:55)
Короче говоря, конечно, для родителей это было большое испытание, потому что я в 12 [заканчивала.] Потом так. В общем, тогда преступности особенной не было, а я уже с десяти лет всюду ездила одна. Тогда дети, понимаете…Потом уже…
Если я в пять лет в Свердловске ходила всюду одна, в Уралмаше, социализация была очень… Уралмаш был тогда загород, это был не Свердловск, это был пригород. Тогда считался пригородом. И у нас напротив как раз… Была улица как бы односторонняя, это был такой большой массив такой какой-то, трава, немножко деревья. А там был – потом в книжке есть это – там был дивный дом. Назывался он «Мадрид». Мы считали, что это гостиница бывшая, но оказывается, что это народ его прозвал «Мадрид», потому что это построили в испанском… Там ничего подобного в городе вообще не было! И как только мы туда приехали, там уже был госпиталь. Туда привозили раненых. Это тоже совершенно отдельное.
Неважно. Важно только то… [Вспоминает.] Значит, я ходила по этой набережной. Я ходила действительно раз на это на самое… потому что мне было совершенно на оркестр мне вообще было наплевать, абсолютно. Хорошо, конечно, было. Я любила сама играть, если так можно выразиться. Сама петь, сама играть, а вот все эти вот такие… Особенно я ненавидела хор, в который меня пытались запихнуть. Но я оттуда быстро ушла, сказала, что я петь не буду, потому что я не могла, просто не могла слышать эту фальшь. Это было так ужасно, у меня прям живот начинал болеть от этого. Вот.
Короче говоря… И я помню, как-то раз я шла однажды, когда была зима, и она, знаете, ударила очень как-то быстро после осени. Т.е. было очень мокро, а тут стало очень холодно. И всё было скользко. И я вот так иду от моста, и тут какие-то… по вот этим извилинам. Дорожку я знаю, хотя освещено не было вообще ничем. Я не знаю как вот. Мы дорожку эту знали. Я иду-иду. Дорожка и дорожка. Так-то я вижу, потому что всё-таки… Тем более, здесь же нету (тогда деревьев этих не было, когда я ходила, так что свет – он, всё равно нужно, чтобы это были огромные тучи, которые всё закрыли, потому что и луна светит, и всё это, всё это какое-то, освещённость есть). Я иду и думаю: «Да. А вот если я в эту яму сейчас провалюсь, что там бедные родители будут думать? Вот я свалюсь, а выбраться не смогу». Потому что там были очень глубокие ямы, а я была ещё маленькая девочка. Я ещё не выросла в свой вот этот рост.
Короче говоря, всё-таки я стала ходить. Это было потрясающе совершенно! У нас был дивный тренер. Там был бассейн 25 метров, тогда не было вот этих 50-тиметровых бассейнов, я не говорю уж про 100. И рядом был маленький лягушатник, мы первый год занимались в лягушатнике, туда проходили, но основа в лягушатнике была.
Когда мы уходили в 12 часов, и потом нам тренер – он был такой хороший, такой какой-то умный, такой, он нас нагружал, но как-то очень аккуратно. Я никогда не уставала. Я вот приходила – всё было хорошо. И вот когда…
А через два когда… Я два года [занималась.] Уже в конце второго года я там плавала, прыгала, ныряла, потом очень любила. И мне потом, когда уже стала поста[рше]… На следующий год, мы прыгали с этого… с тумбочек, и засе… плавали там 100 метров, и он засекал время. И я очень любила прыгать, с тумбочек, мне так нравилось! Но я боялась, когда мы прыгали все вместе – одна я прыгала, как хотела – а вот когда мы прыгали все вместе, я страшно нервничала. Потому что я боялась фальстарт сделать. Потому что когда кто-то прыгнет… И вот. И поэтому я всегда прыгала буквально самая последняя, но я очень хорошо плавала, и меня это совершенно не… И я за два года очень таких, очень маленький тренировок, на самом деле, дошла до третьего разряда! Вот. И когда я пришла, мне померили они давление там, и у меня было 1,5 литра всего. Фу, давление. Глупости какие говорю! Объём лёгких. Они померили, у меня было.
А когда через два года я ушла оттуда, потому что там пришел жестокий такой, настоящий, который готовит этих самых… Плевал на детство, плевал на болезни, плевал на всё. Пришёл такой тренер, у меня было уже 4,5 литра. За два года. Т.е., конечно, я…
И у меня после этого до тридцать… Значит, я кончила заниматься, я пошла [19]49-й… [вспоминает.] До [19]69 года у меня не было ни одного воспаления лёгких. У меня сразу всё прошло. Вот, потому что, огромная…
А потом ещё папа меня научил. Я говорю: «Пап, мне так нравится нырять!» Он говорит: «Мартышка, только аккуратно, вот я с тобой… Давай договоримся». Я говорю: «Давай». Он мне рассказал: «Вот так: ты можешь нырять, но ты должна нырять (мне нравилось плавать под водой). Вот ты нырнула и плывёшь до того момента, как тебе… Вот чуть-чуть тебе захотелось дышать, сразу вылезай. Не жди, когда вот – а! [Изображает задыхающегося человека.] Вот так вот. Значит – всё. И, – говорит, – очень медленно».
Так я за год, за год, я стала проплывать 25 метров. Потому что я каждый раз чуть-чуть… Потому что люди давали советы хорошие: что мама, что папа, что бабушка. Это я говорю, что всё, что я имею, я получила от них. И то, что у меня есть, так сказать, моих возможностей, и то, что я приобрела, – это всё от них.
А потом пришёл тренер к нам туда.
Но я ни разу не упала [в эти ямы на Космодамианской набережной.] Пока я ходила по этим. [Смеётся.] Ни разу не упала, только раз у меня мелькнула такая мысль. Вообще плохие мысли мне были не свойственны. Мне свойственны были только хорошие мысли. А тут я подумала: «Так, вот я свалюсь туда, и что же, бедные, они там потом побегут меня разыскивать? А что, они будут кричать мне: «Нина, Нина!» В общем, это было очень… мне вдруг стало их жалко, но я всегда [ходила] акку[ратно.] Я была довольно ловкая, не падала, ничего. Нормально пришла.
И когда к нам пришёл тренер, через [два года…] Мы приходим (два года проходили) приходим – и там нету нашего чудного тренера! И какой-то странный, высокий такой, поджарый, моло… достаточно молодой. Наверное, ему было лет так тридцать пять, не больше – с абсолютно ледяными, синими глазами, которые смотрели на тебя и сквозь тебя. И как-то становилось очень не по себе от его взгляда.
Он пришёл и сказал: «Так!» Значит, во-первых, он разогнал всю нашу группу, оставил только троих: меня и ещё двух девочек, потому что он считал, что… Потом ещё там кого-то там привели, и дальше он сказал. Потом на следующий [раз] уже мы занимались в каком-то составе, там нас было человек шесть, наверное. Или семь. А потом нас было человек восемь. Но не больше.
Он сказал так, значит: «Разминка». Мы тоже разминались, мы 100-200 метров плавали так. Потом начинали на руках, на ногах, отрабатывать стили (он это говорил) потом нырять, потом разминка, потом фиксация этого, времени, потом начинаются соревнования. И всё такое прочее. Он говорит: «Так, разминка, – я уже так. – Плывёте километр!» Наши все… И вот, дальше мы, значит… Я плыву, значит, 100 метров, плыву 200, плыву 300, плыву… А потом чувствую, что я очень устала, потому что у меня нет ещё этой… не наработана ещё эта устойчивость, эта стойкость к физическим нагрузкам. Она не наработана ещё. Я смотрю уже… А я смотрю, никто уже не плавает, а все где-то [усмехается], головы где-то, зацепились за дорожки, одна вот так сидит, одна вот так сидит. Он приходит: «Так, что? Плавать, плавать, плавать!»
Короче говоря, после первого занятия… Я всегда выскакивала и бежала. А тут я выскочила – и чуть не упала: у меня закружилась голова. И я вот так вот, меня повело, я вот так вот, вот так вот, схватилась за это и думаю: «Господи! Что такое?» А я не знала, что такое это вот, что такое чувство. Потом он…
Я тренировалась два месяца и перетренировала себе руку, левую. Наверное, (я же на скрипке играла, тоже рука [подвижная]) а тут ещё очень активная, совершенно несвойственная [нагрузка], которая упала на меня, как прямо, как каток, вот знаете, который прокатывает Вас. И у меня начался вот здесь бурсит.
Папа быстро очень мне это – а папа сделал (он, кстати, умел, был стеклодувом, он сам умел делать вот эти) – он сделал кварцевую лампу. У нас дома был кварц, дома! Не надо было детей куда-то возить. Кварцевал он дома. И он мне с кварцем вылечил это за неделю. Я неделю или две не ходила. Потом пришла на занятие. Он мне говорит: «Нина, а почему тебя не было?» Я говорю: «Я болела». – «А чем ты болела? Что, что, что случилось-то у тебя?» Я говорю: «У меня был бурсит. Очень вздулась это самое». Он говорит: «Так». Так садится, смотрит так на меня и сквозь меня и говорит: «Так, Нина, бурсит не бурсит, температура, грипп – неважно. Но ты должна прийти на тренировку. Если не хочешь – уходи». Я говорю: «Я поняла». И я ушла.
[Ничего себе тренер!]
Вот так, потому что у нас такая… На самом деле, наш тренер первый – это была не норма. Это было скорее замечательное исключение. А все были вот такие. Потому что они хватали людей, трясли их.
Кстати, со мной очень многие тренера обламывались, потому что моя ловкость и то, что я очень много умела чего делать, их вводила в заблуждение. А у меня была очень… Я была очень таким, очень примитивным спринтером. Я нагрузки не выносила. Тоже сердце у меня… Тоже у меня там был какой-то порок небольшой сердца. То ли заращение было, то ли что-то. Что-то было с сердцем тоже. Лёгкие они с сердцем… они же очень связаны.
Во всяком случае, я ушла. Но я была счастлива, потому что я, во-первых, прекрасно плавала к этому времени, я прекрасно ныряла, и меня это вполне устраивало. А заниматься такими глупостями я не хотела. Я понимала, что до этого я здоровье поправляла себе. И когда я рассказала папе, папа говорит: «Так. Даже… Ты абсолютно. Ты, – говорит, – что решаешь?» Я говорю: «Я ухожу». И маме. Говорит: «Абсолютно правильно. Потому что, – говорит, – ты получила то, что надо. Потому что ты же не хочешь быть спортсменкой?» Я говорю: «Не, не хочу». [Усмехается.] Спортсменкой быть не [хочу.]
Гостиница на крыше многоэтажного дома. Как дети называли один из сталинских домов. Чтобы больше не спрашивали: какое название было придумано для секретных командировок отца. Про учёбу в школе (01:01:55 – 1:06:50)
И дальше, когда сделали здесь [благоустроенную набережную], мы стали понимать всю прелесть этого места. Потому что мы стали гулять. А когда уже чуть-чуть эти подрастали немножко деревья – это было потрясающе.
У нас на доме было два каких-то странных [пристроенных здания] сверху. Одна какая-то беседка и ещё что-то такое. И вот однажды, это было году, наверное… в [19]50-х, наверно, годах, одна из этих пристроек наверху загорелась и сгорела! Вот что-то было непонятное.
А там ещё была такая… Когда Вы выйдете, вы потом посмотрите наверх. Вот когда Вы идёте… У нас дома – они разновысотные немножко: этот немножко ниже, этот немножко выше. А у нас над частью дома есть ещё один этаж как бы… Вы увидите его. Вот этот этаж был гостиницей. И в него… Никто не знал, что здесь [гостиница.] Это была гостиница вот этого, тогда это был… Вот сейчас – «Росатом». А тогда это называлось таким замечательным стыдливым именем «среднее машиностроение». Это гениальная совершенно советская выдумка – среднее машиностроение.
Вот это была гостиница, в которую приезжали люди, которые сюда приезжали в командировку. Они шли в наш подъезд, ехали до восьмого этажа, потом шли пешком, и там была дверь. Они там звонили, им открывали, там говорили свою фамилию, им открывали, и они там [жили.] И там было сколько-то, я не знаю, наверное, десять – двенадцать комнат. Вы увидите это. Сейчас там тоже что-то в таком духе, по-моему, есть. Какая-то там была структура…
В [19]90-е там было что-то, конечно, кошмарное. А сейчас там, по-моему, тоже что-то вроде гостиницы, но уже не среднего машиностроения. А может быть, даже «Росатом» по-прежнему. Я этого не знаю просто, потому что это по-прежнему… «Росатом» по-прежнему держит эти, свои эти самые, секреты держит как секреты. Свою деятельность оно всё-таки не афиширует.
И у нас на набережной, если пойти туда ближе, около [Большого Устьинского моста.] Потом был там построен дом ещё, такой, мы звали его «бисквит в шоколаде». Тоже сталинский такой дом, большой. [прим. – Скорее всего, речь идёт о жилом доме Электродного завода, на крыше которого и сегодня красуется изящная ротонда. Дом расположен по адресу д.4/22 к.Б.] Тоже там, тоже он был. Но он был немножко лучше, планировки были квартир лучше, чем наши.
[Это на Вашей стороне? Если дальше пройти?]
Если пойти к Устьинскому мосту, там Вы его увидите. Он такой… Я говорю, «бисквит в шоколаде», короче, мы его там называли.
А напротив была, было здание вот это. Кстати, папе предлагали тут квартиры. Папа пошёл, посмотрел – а это три комнаты. Но это очень хорошие, там большая кухня. Папа говорит: «Нет, меня три комнаты не устраивают. Мне надо четыре комнаты».
[Это где, Вы говорите?]
Высотный дом! [прим. – Речь идёт о высотке на Котельнической набережной.] Ему предлагали… Таким людям где предлагали? Поскольку он, тогда был равен больше, как бы… Он был секретный, но он был абсолютно, совершенно, 100%-тно секретным.
Когда он стал ездить в эти командировки, мама говорит: «Вас будут спрашивать. Девочки, вас будут спрашивать, – Потому что Миша был маленький. – “А где… А что-то мы Георгия Львовича не видим?” А вы говорите: “А он в командировке.” – “А где он в командировке?” – “В Лимонии”. – “А где эта Лимония?” (Это мама придумала.) А вы, – говорит, – отвечайте: “Лимония – в Лимонии”. И тогда, – говорит, – они отстанут».
И вот в точности, вот что мама говорила… Она была удивительно в этом отношении как-то… Она умела поразительно совершенно адекватно научить человека общаться на любом уровне. То есть она давала маленькую схему и дальше человек в меру своих возможностей (все мы по-разному общались…). Но тем не менее, у меня никогда не было никаких проблем в общении ни с кем. Потому что я мгновенно перестраивалась под своего собеседника, будучи даже ещё маленькой. Это была мамина школа.
Она мне как-то раз сказала: «Нинуша, ты у нас быстро говоришь. Это очень хорошо. Но если ты говоришь с пожилым человеком, ты старайся говорить медленнее.» Потому что когда я в школе училась, я выхожу… Школа – место довольно паршивое, скучное, и ничего там хорошего нет. Я никак не могла понять, зачем у нас кроме одной преподавательницы все рассказывали то, что… то есть практически то, что было в учебнике [пересказывали.] И я думала: «Зачем это?»
А у меня, а у нас у папы была фотографическая память. Там [в книге] тоже будет один рассказ на эту тему. Поэтому мне было очень просто учиться. Потому что я дома вообще не читала ничего, только иногда… Не каждый раз делала это [домашнее задание.] Двойки иногда получала. Но это никого не волновало. Потом всё равно получала пятёрки. Пятёрки потом четвёрки, ну предположим.
Эллочка, правда, у нас была отличницей. Эллочка была, она была совершенно другой человек. Она математик. Она потом так и стала математиком. Она поступила в Физтех. Это было тогда… ему было только три года. [прим. – Московский физико-технический институт был основан в 1951 году.] Она была золотая медалистка. И я всегда говорила всем: «Нам хватит, – говорю, – одной [нрзб. – 01:06:44]». Мамочка говорит: «А кому это нам?». Я говорю: «Нашей семье».
От картошки до машины: на что лауреаты тратили Госпремии СССР. Сколько машин было на Космодамианской набережной 1950-е гг. О забавном знакомстве с заместителем командующего артиллерией по реактивному вооружению. Об удивительном характере папы (01:06:53 – 01:13:56)
Теперь про этот дом давайте. И про набережную.
Набережная была поразительно уютна, потому что… Во-первых, тогда вообще машин в Москве было очень мало. У нас в доме появилась машина первая в [19]54-м году. В [19]55-м. Не наша. Наша машина была здесь третья.
Папа получил четыре лауреатских медали. Премии. За все эти действия свои. Одна была у неё ещё за [достижения периода,] когда он работал с военной авиацией, а три другие – это были на взрывах всевозможных. Вот, и на первую… было это очень забавно. На первую – там деньги же были [получены] – [мы] купили картошку. Мы уже жили здесь. Голодали. Купили картошку, очень много картошки. Но до конца нам съесть её не удалось, потому что больше половины картошки своровали. Там она где-то хранилась, её своровали. Ладно. На вторую купили маме самую дешёвую шубку, беличью. Она была дешёвая, но мама очень была худенькая, она была стройная, очень… она мёрзла. Она очень была такая спортивная тоже. Но у неё была единственный раз в жизни шуба, вообще этого ничего у нас в доме не существовало. У мамы даже уши были не продеты, и у нас тоже были уши не продеты. Так получилось. Вот. А на третью эту Ленинскую… Сталинскую премию машину решили купить, и уже внесли…
Замечательная наша власть грабила народонаселение разными способами. В том числе, у неё была замечательная, например, такая фишка. «Победа» тогда (это всё было не наше, всё было своровано у немцев, все машины – они были…) [приобреталась таким способом.] Вы отдавали деньги и ждали потом от полугода до года машину. Т.е. вот так. Но у нас получилось очень хорошо: папа получил премию, деньги он быстро туда переправил куда надо. И в это время в Академии наук устроили школу вождения. Школу вождения. Папа пришёл домой и сказал: «Кто хочет водить машину?» Я сказала: «Я хочу!» [Смеётся.] Вот. Больше никто не хотел. И мы пошли туда с ним…
Дальше, когда мне было девятнадцать лет, я получила права. Вот. (Ой, кстати, у меня же есть как раз снимок около нашего дома! Но я потом найду его. Где-то он был… Но сейчас не знаю. Я стою около…) Мы учились на автобусе и на грузовике. Не на легковой машине. А на автобусе и на грузовике. Вот. Набережная была удивительно уютна, потому что в [19]56-м году, когда у нас появилась машина, здесь было три машины. И они стояли вот тут вот, под домом, вот так вот. Три машины.
И люди гуляли по набережной, буквально… Правда, там было много – большой широкий тротуар, около воды гуляли, во дворе гуляли. Замечательное знакомство на набережной у нас было с третьим этажом. Там так же дали генералу, очень… Он был помощником министра вооружения. Помощником Неделина был. [прим. – Митрофан Иванович Неделин (1902 – 1960) – первый главнокомандующий Ракетными войсками СССР, командующий артиллерией Советской армии по реактивному вооружению.] Очень был такой удивительный человек, очень хороший, Андрей Илларионович такой. [прим. – Андрей Илларионович Соколов (1910 – 1976) – генерал-лейтенант, доктор технических наук, руководитель учёных в области ракетных войск стратегического назначения. Принимал участие в испытании первых советских баллистических ракет на полигоне «Капустин Яр». С 1953 служил заместителем М.И. Неделина. А.И Соколов научно обосновал месторасположение для строительства космодрома Байконур (в 1955 г.).] Жёсткий. Но, знаете, всегда особенно мужчин очень просто понимаешь, когда видишь, как они обращаются с детьми и со стариками. Но это всегда: всех людей [так можно определить.] А у жёстких мужчин, особенно у военных, это особенно [видно.]
И вот бабушка рассказывала: «Ой, – говорит (приходит с прогулки, с Мишенькой, когда ему… ему уже только. Ему в этот момент ещё не было даже четырёх лет.) – Ой, – говорит, – вы знаете, у нас сегодня очень интересный случай был». Без него она рассказывала, потому что у нас все с года говорили, а уж с полутора там, я не говорю, пели, а уж в два года понимали всё, и поэтому не при нём рассказывала. «Мы гуляем сегодня, и вдруг, – говорит, – во двор въезжает… (А он [прим. – Андрей Илларионович.] ездил не на «Победе», а какая-то была типа… какая-то была такая – уже «Волги» появились – но такая шикарная она была. Чёрная, конечно, чёрная.) – И оттуда, – говорит, – выходит, – говорит, – я уже знала – выходит генерал. У него распахнута шинель вот так вот. Он выходит и идёт. Миша… А мы стояли, – говорит, – в это время около подъезда. Миша, когда его увидел, вот форму такую, вот [как] он идёт навстречу. (А он, как-то далеко выехали, ему надо было пройти шагов двадцать.) Миша, – говорит, – так ручонку вырвал у меня, подбежал, вот так, – а мы стояли около подъезда, подбежал вот так и сделал вот так. [Показывает, как будто отдаёт честь.] Этот [Андрей Илларионович] когда подходил, вот так повернулся – и [тоже] отдал ему честь!»
Андрей Илларионович. Мы потом всегда с ними дружили. И потом я всегда поражалась, когда – они жили в Жаворонках.
Кстати, в Жаворонках – там дача, мы там часто у них бывали. Мы там снимали дачи, у нас не было дачи, у семьи. Потом уже мы дачу построили, мы с мужем, для всех, но уже тогда папа… к сожалению, он только успел на эту дачу приехать, а потом его не стало. Он не смог на ней пожить. Он только выбрал там комнату себе. Он сказал… Но он сказал: «Мартышка, но очень большая дача, по-моему». Я говорю: «Папа, как раз хорошо – мы все, и потом кто-то приедет в гости». Он говорит: «Хорошо».
А у них, у него в детстве тоже была дача, собственная, в Мустамяках, такое место было под Ленинградом, это тогда была… финны тогда были. Но это была российская, так сказать, земля. Но она сгорела. Финны её подожги, и она сгорела. И они говорили [изображает акцент]: «Ну, что? Сгорела, сгорела дача. Но Нырман (они его не Шнирман (папа был) не Шнирман называли, а Нырман), но Нырман же застрахован! Ну вот!» Это было в [19]13-м году, папе было тогда… Он с [190]7-го года, ему тогда было, соответственно, шесть лет.
Но до этого у них была дача. И было маленькое озеро в этой даче (такая была большая) и там была лодка. И однажды, когда ему было четыре года, он влез в эту лодку, а она отвязалась. Он оказался на этой лодке, и братья с ужасом вдруг обнаружили своего [младшего брата одного в отвязанной лодке.] Представляете себе, он? А там утонуть ничего не стоит, вот немножко так. Но он сидел спокойно. Он был спокойный очень, такой очень чёткий человек, удивительно смелый и какой-то такой… Редкий был человек папа, совершенно редкий. Вообще все они были по-своему редкие люди. Т.е. у меня, у нас у детей, была палитра всех достоинств, Вы понимаете, всех: женских, мужских, материнских, бабушкиных, пели, играли, папа очень хорошо в медицине разбирался, потому что его двое старших братьев были врачами. Вот.
И таким образом [мы] познакомились на набережной с этим – Андрей Илларионович Соколов [звали его.] Когда его…
Почему весть о катастрофе на Байконуре мгновенно долетела до дома на Космодамианской набережной. О советской власти и погибших космонавтах (01:13:56 – 01:18:57)
Однажды, уже тогда были какие-то испытания эти… он [прим. – Андрей Илларионович Соколов.] занимался не атомным проектом, он занимался проектом космическим. Но это значительно более простая вещь, потому что, как ни странно, космос – значительно более простая вещь, чем атомная бомба. Значительно более простая, потому что там нету… Там риск взорваться, но там нет риска ни заражения, ни этого, ни это… ну, понимаете. Вот и тем более, там только можно пускать так. А с подводной лодки тогда ничего не пускали, а снаряды вот эти и бомбы – это всё занимались эти… Но это всё равно было очень интересно, очень важно, и очень...
Так вот, Неделин это курировал это всё, а он был его заместитель. И однажды они поехали [на космодром Байконур.] Должны были поехать на испытания. И когда они приехали на аэродром, Неделин говорит Андрею Илларионовичу: «Слушай, Андрей, знаешь что, я забыл документы. Я тебя прошу, ты поезжай в министерство, возьми там это и это и ко мне прилетишь следующим бортом».
Этот уходит, уезжает. И дальше ничего не получается у него, он может прилететь [только] на следующий день. И вдруг вечером и утром начинаются звонки сюда, к Римме Григорьевне. [прим. – Вероятно, супруга Андрея Илларионовича.] А он с ночи пошёл, потому что ранний самолёт. И ей начинают соболезнования [приходить.] Потому что Неделин взорвался на испытаниях. [прим. – Речь идёт о взрыве ракеты на Байконуре в 1960 г., произошедшего по причине нарушения техники безопасности. По разным данным при взрыве погибло семьдесят восемь или от девяноста двух до ста двадцати шести человек.] А этот [Андрей Илларионович] не взорвался, потому что он не поехал.
Но пришёл другой тогда министр, который очень тупой такой. Туповатый, типичный советский вот такой руководитель, лизоблюд, дрянь и ничтожество. Гречко. Он ненавидел Андрея Илларионовича (а тот был совершенно другой человек). И он его всячески гнобил. Он дальше, он был какой-то генерал, только не генералиссимус (это у нас был Сталин), а он был предпоследнего чина. Последнего он не получил по генеральскому. Он должен был получить, но вот там генерал-майор, генерал такой-то, генерал такой-то…
И его [прим. – Андрея Илларионовича.] сделали начальником навигации всех полётов. Т.е. в Балашихе [прим. – Рассказчик оговаривается, т.к. речь идёт о г. Королёв], по-моему, это было. И он стал директором вот этого института, [прим. – С 1955 по 1970 Соколов являлся начальником НИИ-4.] который занимается… Вы, наверное, видели уже по хронике часто сейчас (сейчас-то его уже давно нет, но место то осталось). [прим. – Сейчас институт называется 4-й Центральный НИИ Минобороны РФ.] Там, где с Земли занимаются навигацией, где обратная связь с космосом, с этими со всеми с космонавтами.
И когда у нас произошла эта ужасная история, у нас же погибло несколько космонавтов. Погиб, во-первых, Комаров, и потом погибло три космонавта. [прим. – Рассказчик говорит о гибели Союз-1 в 1967 г., на борту которого находился В.М. Комаров, и гибели Союз-11 в 1971 г., на борту которого находились Г.Т. Добровольский, В.Н. Волков и В.И. Пацаев.] И он [прим. – Андрей Илларионович.] пришёл, а его жена рассказывала маме. Она говорит: «Вавочка! Ты не представляешь, он так плакал! Он говорил: “Римма, я не виноват! Я не виноват! Я просил, я кричал, я звонил всё время по вертушке! (Ну, связь прямо с Кремлём.) Сажать, дайте мне возможность их посадить! Можно посадить, они сейчас над нами!” – “Нет, нельзя! Потому что вдруг они сядут не там, а где-нибудь в другом месте, и там они увидят эти самые…”» Т.е. они погубили этих троих, а потом написали, значит: «Были космонавты, были найдены без признаков жизни».
Это тоже советская примочка, омерзительная совершенно. Вся эта гадость – всё это жуткое, немыслимое враньё и двойная жизнь этой власти, понимаете… Мы в каком-то смысле слова не были лучше, ничуть не лучше были фашистов. По нашим методам, по нашим, как мы убивали своих людей и всё такое прочее. Но, понимаете, фашисты были…
Они долго не продержались, но слава богу, потому что мы их победили. Мы фашизм победили. Это, конечно, великая вещь. Наша победа была. Не то, что рассказывают сейчас. Потому что это была именно наша победа. Но они говорили: «Мы арийцы, а вы все не люди». А у нас всё время пели эти песни… Нет ничего ужасней этой двойной жизни! Там жили ужасной фашистской жизнью: этих надо убивать, эти самые, эти евреи, эти цыгане, эти славяне, этих всех надо… Это не люди. Славян ещё как-то можно оставить. А этих просто всех надо – евреев, цыган, ещё там кого-то – надо просто всех уничтожить. А эти – они не люди, они просто не люди, а люди – только арийцы.
А у нас же многонациональная страна, у нас все равны абсолютно! Как только писал этот самый замечательно, [19]84-м, нет в [19]74-м: «Все равны, только некоторые равны больше». Нет, он это, это он уже писал в «Звероферме», у него же была вторая книга на эту тему, про старшего брата. [прим. – Рассказчик говорит о произведениях Джорджа Оруэлла.]
Короче говоря, жил вот такой человек у нас. А в общем у нас дом был довольно паршивый, потому что у нас были здесь сплошные номенклатурные вот эти самые работнички.
Прыжки через верёвку в три с половиной года. Что и как ели в голодные времена. О том, как маленькая девочка лазила на строящийся дом и прыгала с высокого сарая. (01:18:57 – 01:26:19)
В общем, общаться тут было не с кем. Мы общались вот с этим. Мы немножко дружили тут с одной девочкой из [нрзб. – 01:19:05.] А в общем, нас всё устраивало.
Дело в том, что у нас в школе были подруги, и кроме того, нас было три девочки, мы… Я была, конечно, самая счастливая, потому что у меня была и старшая сестра, и младшая. Т.е. я слушала, и она меня всегда чему-то учила, что-то показывала. Я говорю, что я, когда пошла в школу, я до тысячи умела считать, потому что она мне показывала. А мне было очень интересно. [Усмехается.] Я, конечно, умела читать там всё это. Это всё и мама… Мама учила тоже считать.
Когда мне было три с половиной года на [улице] Мещанской, мама сказала: «Девочки…» (Там была очень смешная история, прочитаешь это [в книге]). Мама говорит: «Девочки, кто хочет прыгать через верёвку?» Мне было три с половиной года. И я потом всю жизнь прекрасно прыгала. Я не прыгаю только, наверное, лет десять – пятнадцать. Не могу прыгать, потому что сердце не позволяет. А прыгала всегда великолепно.
И я могла откуда угодно спрыгнуть, потому что у меня была прыгучесть высокая. И Элла очень боялась этого. Эллочка… потому что у нас в Свердловске, в эвакуации, у нас был рядом с нашим домом, строился какой-то дом. Он строился. И сначала был первый этаж, потом был второй. И он строился так: у него были пазы какие-то, вероятно, по секциям. Наш-то дом был двухэтажный. А тот был, должен был четыре этажа быть – это тогда в Свердловске это было ого-го! Вот. И там было вот так вот, было такое углубление, в полкирпича. Что делать с этим углублением такому человеку как я? Конечно, туда залезать. Я туда залезала.
И вот когда книжка вышла, значит, [усмехается] приезжает ко мне Ёлка, моя старшая сестра – мы всё время же общаемся – и говорит: «Слушай, а почему ты не написала эту ужасную историю?» Я начинаю быстро-быстро и в ужасе думать о какой ужасной истории [идёт речь.] Потому что я ничего ужасного в своей жизни не помню.
Конечно, были тяжёлые истории какие-то, со здоровьем, с этим, с голодом, с ней как раз были очень тяжёлые истории, потому что она в обмороки падала от голода, Эллочка. Я не падала, а она падала, между прочим. Потому что она была старше, ей категорически не… Мы ели практически только вот то, что нам полагалось: 200 с чем-то грамм хлеба, всё, больше не было ничего. И бабушка варила суп из крапивы. И я там так вот, помню, ковыряю и думаю: «Вот интересно, в прошлый раз я поймала там крупинку, а сейчас нету». И я вот так ловлю, ловлю и думаю: «Сейчас не поймала, а в следующий раз поймаю». [Смеётся.] А там крапива только. Но бабушка – она уже поняла. Бабушка перенесла голод в [19]20-е годы. И она уже понимала. А там ничего нельзя было купить, и ничего кроме хлеба нет. Т.е. очереди были ужасные, но можно было практически отоварить только… получить только хлеб, иногда какую-то крупу, очень редко. Мясо нельзя было вообще отоварить. Мясо не было вообще, мы его не знали, что такое мясо вообще. Про всё остальное я не говорю. Сахар… Сахара тоже не было, и бабушка покупала в аптеке какие-то капли, она пользовалась этим, и они были сладкие. Они были «Ёлка какая-то». Витамины назывались. И она нам капала это в чай. Это было замечательно, мы очень это… Ко мне это, я к этому относилась ко всему очень спокойно.
И я говорю… Элка говорит: «Почему ты эту жуткую историю, кошмарную совершенно не написала?!» Я говорю: «Ёлка, но какую?» – «Мы выходим (я, ты и Анночка) мы идём гулять, я с вами должна гулять. Мы вышли только из подъезда, а у Анночки развязалось что-то такое… [Прерывается на телефонный звонок.] Мы выходим на улицу. Анночка, у неё сразу же что-то развязалось, я ей завязываю шнурки, я обернулась – тебя нету. Я смотрю, где ты – а ты уже долезла до третьего этажа! И, – говорит, – я, – говорит, – если бы я была взрослой, я бы поседела. Я не знаю, но я знала, что нельзя кричать. И я говорю тебе громко, но так: “Ниночка, слезай оттуда. Пожалуйста, нам надо гулять”. А ты, – говорит, – мне отвечаешь: “Я сейчас слезу, только долезу до верха”. Тогда, – говорит, – я стою, я не знаю, – говорит, – мне плохо».
Анночка не понимает, [усмехается] Анночка к этому привыкла, что я лажу. Её это совершенно не волновало. Но Эллочка, понимаете, она на пять лет старше. Анночки там три года, а этой восемь. Это большая разница очень. Или восемь с половиной даже, наверное, тогда было.
Она говорит тогда: «Ниночка…» Нет, она говорит тогда мне: «Нинуша, – потому что Нинушей меня звала только мама, – Нинуша, у нас мало времени, потому что там что-то такое вот, поэтому мы же хотели в лес пойти, так что ты лучше слезай». Тогда я сразу слезаю. И слезла.
Я говорю: «Эллочка, я это не помню, этой истории». Она говорит: «Неужели ты этого не помнишь?» Я говорю: «Абсолютно! Это твоя история, это тебе было страшно, это тебе было ужасно, это ты была ответственна за мою жизнь, ты была старшая сестра, и я при тебе такое отчебучила. А я лазила туда каждый день, потому что, когда я гуляла, я всегда туда залезала, начиная с первого – до первого этажа, потом до полуторного, потом до второго – я всегда туда лазила». Только очень жестокой зимой я туда не лазила, я всегда лазила, как только начали строить.
Потом там был ещё сарай, я с него прыгала. И Эллочка пожаловалась, что я прыгаю с очень большой высоты. Сарай был примерно вот такой вот, как вот этот шкаф [не больше 1,5 м высотой.] Мне было пять лет, пять с половиной лет. Я оттуда прыгала вместе с мальчишками. Конечно, девочек там не было, естественно. Мальчики были там старше меня, больше, крупнее, но всем нравилось туда залезть. Там как-то мы залезали, а потом оттуда прыгали. Папа мне говорит: «А мне Ёлка рассказала, что ты тут прыгаешь откуда-то». Я говорю: «Прыгаю». Он говорит: «А как ты прыгаешь, расскажи мне». Я тогда сразу поняла, что речь сейчас пойдёт о запрете. Я очень хорошо это чувствовала. Я тогда говорю… Я тогда всё ему рассказала. И я поняла, что я должна ему рассказать вот эту механику, телесную механику – как я прыгаю. А я действительно прыгала определённым образом. Я говорю: «Пап, я подхожу к краю, потом я чуть-чуть, немножечко присаживаюсь, ещё не наклоняюсь вперёд, но немножко у меня согнуты колени. Немножко согнуты колени». Он говорит: «Хорошо», – папа говорит. «И дальше, – говорю, – я наклоняюсь, но не падаю вперёд, а чуть-чуть немножечко отталкиваюсь от этого. И падаю на землю. И когда я лечу, – я говорю, – я знаю, что я сейчас упаду на хорошее… Вот так вот, спружиню ногами. И я пружиню». – «Вот хорошо». Я говорю: «Так я буду прыгать?» Он говорит: «Прыгай». Вот так вот. Вот так.
Кстати, ме[жду про]чим, за всю жизнь, вот тогда, я ни разу себе ничего не сломала. Я не знаю места, куда бы я не залезала.
[Фрагмент интервью 01:26:19 – 01:30:21 не публикуется.]
Нашу квартиру прослушивают? О романтическом свидании с будущим мужем, женитьбе и ссоре. Как проходил бракоразводный процесс в 1950-е гг. Служба в армии, секретный атомный проект, дезертирство и любовь. Сколько минут проходит с момента прослушки до момента звонка гэбэшника? (01:30:21 – 01:55:54)
Да! У нас была ещё замечательная история, это было уже в [19]48-м году, в конце [19]48-го. Папа собрал нас как-то в нашей детской комнате и сказал: «Девочки, – (нас они называли всегда «девочки», потому что мы все вместе, когда мы все вместе) говорит, – Девочки, хочу вас предупредить, что нас прослушивают. Вот. Прослушка идёт. По телефону. Ещё, – говорит, – как-то, неважно как, но я прошу вас быть аккуратнее в разговорах. Особенно по телефону. Но и, – говорит, – за столом тоже быть аккуратнее, потому что нас прослушивают». И я потом… Но это уже отдельно, это не имеет отношения к набережной, это была совершенно фантастическая история.
[Расскажите, интересно всё равно.]
А история была такая. Когда мне было девятнадцать лет… когда мне было пятнадцать лет, на одной из дач я познакомилась с одним мальчиком, и мы стали, как говорится, встречаться. Надо сказать, что первая встреча у нас произошла в городе уже. Это было очень смешно, потому что, когда мы договорились о свидании через телефон, договорились встретиться в центре, Охотный ряд.
И вот девочки стали страшно волноваться, и старшая, и младшая: «А в чём ты пойдёшь?» Я говорю: «В чём? Я пойду. Какая разница!» – «Нет, ты оде…» Значит, они начали мне платья [усмехается.] Меня все эти приготовления очень… Потом старшая сестра, которая… Они обе были большие аккуратистки, чего нельзя сказать обо мне. «Так, а где твоя сумочка? – говорит Элла. – Как, ты пойдёшь без с[умочки]?!» Я говорю: «Да что, я идиотка, что ли? Зачем мне нужна сумочка? Я с сумочкой хожу только в этот, в театр. Но там понятно, – я говорю. – А зачем сейчас мне сумочка?» Она говорит: «А куда ты положишь платочек свой?» Я думаю: «Так, платочек… Куда я…». «Я его в руках понесу, – я говорю, – в руках понесу!» – «А деньги куда ты положишь?» Я говорю: «У меня 5 копеек, надо на метро. Я туда доеду, а обратно пойдём пешком, мы по центру погуляем, потом, – я говорю, – пойдём, не будем, мы погуляем, по городу».
Это было начало сентября. Мы познакомились в начале августа. Сразу, в общем, у нас была такая вот любовь. Короче говоря, с большим трудом они меня уговорили. Тот платочек я всё-таки взяла, пошла вот с этим.
Короче говоря, когда мне было [вспоминает] почти восемнадцать лет, мы с ним поженились, но это уже было понятно, что… делать этого не надо было. Я уже понимала, что мне тяжело очень с ним. Даже просто по-человечески тяжело, потому что он был полная моя противоположность. (Но не с точки зрения эмоциональной, не с точки зрения того, как мне говорили: «Шнирман, медленнее! – в школе: – Шнирман, медленнее!» – учителя, [усмехается] а я бла-бла-бла думаю: «А ну вас! Быстро сейчас скажу и сяду на место, чтобы вы от меня отцепились». Вот. Значит, но я понимала, в общем, что…)
А он так вот: утром просыпается (мы с ним поженились) вот утром. Мы жили немножко в этой – столовой. Папа говорит: «Мы разде[лим] …» Папа говорил: «Только, Мартышка, не уходи ты к нему в семью. В его семью не уходи. А давай…» Я говорю: «Папа, как же я здесь? Здесь же негде!» Он говорит: «Ну как! Мы, – говорит, – эту комнату разделим на две части, здесь оставим столовую, а там вы будете жить, в той…» Я говорю: «А рояль?» – «Ну, – говорит, – Мартышка, мы всё сделаем, только не уходи туда».
И пока что ещё ничего не было, т.е. ещё ничего не успели разделить, ничего не успели там напортить. А мы, значит, у нас были тут матрасы, и мы… Сначала мы на даче жили, потому что мы в мае поженились. На даче жили три месяца, а потом ещё здесь.
И вот так вот. Просыпаемся утром. Господи, он просыпается, и я вдруг вижу около себя такое схмуренное и недовольное лицо. Он был на год старше меня всего. Значит при том, что мне восемнадцать, ему девятнадцать: «Да что такое! Опять это со[лнце], опять будет жарко, опять будет жарко!» Я говорю: «Ты что, боишься жары разве?» – «Нет, я не боюсь, но… но зачем так вот: будет печь, будет печь голову, будешь мокрый». Я говорю: «Да никогда ты мокрый не бываешь, потому что, – я говорю, – мокрыми бывают люди, которым тяжело от жары или которые работают, а, – я говорю, – тебе не будет жарко». В общем, я всегда это завуалировала. Просыпается – дождик. Так, начинается! Значит, он говорит: «Опять дождь, опять дождь! Опять дождь!» И вот, я всё время, целый день – всё было плохо, понимаете? Я всё время… А я хотела его так, но я всё время это, смеялась.
И вдруг в какой-то момент мне безумно это надоело. И вот я сказала: «Знаешь, – я говорю, – я не могу так жить». Он говорит: «А что такое?» Я говорю: «Ну… Ну невозможно так жить! Потому что я, – го[ворю], – понимаешь, в чём дело: я привыкла, мне всегда всё очень хорошо. Хорошо, я понимаю, что тебе… Но нельзя же целый день стонать! Ты, – я говорю, – ты стонешь, как старая старуха, – я говорю, – Я, ты понимаешь, в чём дело, я… – (А я была человеком очень решительным.) Я говорю, – Знаешь что, если ты будешь так стонать, я просто с тобой разведусь. И всё. Я не могу с тобой жить вот так, в такой… Потому что это не жизнь для меня! Для меня жизнь – это радость, а для тебя жизнь – это сплошные неприятности, которые я должна всё время избывать». [прим. ред. – избывать – уничтожать, губить.] Это очень тяжело.
И вот когда я это сказала, что я с ним разведусь, он вдруг так встал и говорит: «Ой». И вот так вот сделал руки [вытягивает их вперёд.] Я говорю: «Что случилось?» – «Я не вижу ничего». И вот он стал так ходить по комнате, что он ничего, он ничего не видит. Я потом пришла, рассказала это.
Мы приехали [в Москву] [Вспоминает.] Он поехал к родителям, а я осталась здесь. Я рассказала: «Пап, слушай, ты знаешь, сегодня…» Он говорит: «Как странно. Ну, – говорит, – может быть, не знаю, – говорит, – на нервной почве, конечно, бывает временно, но вообще это странно». И вот дальше, как только я заводила речь о том, что… Я уже понимала, что я не могу с ним жить, потому что это обнаружилось очень быстро. Когда ты не живёшь с человеком, ты этого не видишь. А тут вот как. Он сказал мне…
Да, а получилось вот как. Мы поехали – какой-то праздник там был у его родителей. Они жили на какой-то 5-й Тверской-Ямской [улице], там. (Родители у него были достаточно… Интеллигенция по образованию. Но не по всему другому, потому что образование интеллигентности человеку не прибавляет. Интеллигентность – это склад души. Бабушка не имела высшего образования, а была человеком удивительно интеллигентным. Они были людьми не интеллигентными, но там была бабушка – очаровательная, очень милая женщина. А Лёня был такой – неврастеник. У него мама такая же была, у неё всегда было такое лицо, что на нём была такая печать [говорит манерно]: «В чём дело? Что такое случилось? Что вы хотите от меня?» Вот такое выражение лица буквально. Такая была, такая – не очень полная, но такая неизящная женщина с таким, может быть, даже интересным лицо. Но очень удивительно неприятная, и меня страшно не любила. Но так держалась достаточно корректно. Отец вообще, так сказать, никак не проявлял себя. Был такой холодный и грубоватый. Все они, они были оба инженеры. А бабушка была – очень меня любила, бабушка его. И сестрёнка у него была, она тоже меня очень любила. И там все женщины были Нины. Там была мать Нина, бабушка Нина, и я была Нина. Только сестрёнка – Люда, по-моему. Люся. Там Люся её звали. А он был Лёня.)
И вот мы туда приехали и стали что-то там, где-то. Я говорю: «Я пойду, поговорю немножко с Ниной…» [вспоминает] Нина Ивановна её звали. (Значит, он тоже был, по крови он был этот метис – половина еврейская кровь, половина русская. Так же как у меня. Но, кстати, папа у меня был православный. Он был из семьи выкрестов, и его крестили ещё в детстве. Так что у них там была русская культура, но по крови он был евреем. Удивительно был красивый человек, очень.) Значит, я пошла к бабушке: «Здрасте!» Она меня обнимает, целует: «Как? Как вы? Как живётся вам? Всё». Я говорю: «Знаете, – говорю, – Нина Ивановна, ну всё, – я говорю, – как-то он всё время ему всё плохо». – «Да, и вот мать его тоже такая. Но что поделаешь». [Смеётся.] Она старая была, пожилая женщина. Я говорю: «Знаете, меня сейчас очень волнует, что он слепнет». Она говорит: «Как слепнет? А что, а что – слепнет?» Я говорю: «Ну вот», – я рассказала. Она говорит: «Да у него зрение-то хорошее, никогда, – говорит, – я ничего не видела, чтобы он слеп».
И вдруг до меня дошло, что это манипуляция. И вот когда я – я долго очень на это велась – и когда я это поняла, я с ним тут же разошлась. Я сказала: «Лёня! Я…». Боже, что дальше началось, это!.. Вот дальше – вот сейчас вот эту историю, про прослушивание. Дальше… А мы в это время учились в институте. Дальше он завалил всю сессию, короче говоря, зимнюю. Его забрали в армию. Но его забрали как человека уже из института, его забрали в эти самые – на полигон. В атомные дела. В атомные дела. (Да! А когда мы расписывались с ним, то он говорит: «Слушай, ты не хочешь взять… Мы возьмём мамину фамилию». Я говорю: «Какая фамилия у мамы?» – «Степаненко». Я говорю: «Нет, – я говорю, – давай, – я говорю, – я останусь Шнирман, а ты останешься Лившиц. Давай так и останемся при своих фамилиях. – Я говорю, – мне нравится моя фамилия». Он говорит: «Тогда я возьму твою фамилию». Я говорю: «Бери. Мне-то какая разница? Если хочешь, то…» Меня это, правда, немножко удивило, чтоб мужчина взял… Я к этому отнеслась спокойно. Мне было в каком-то смысле слова, мне главное, чтоб меня [смеётся] не пытались из моей фамилии замечательной вытащить, потому что я семью свою обожала. И мне всё это очень нравилось.)
Короче говоря, его забрали в армию. И дальше я подала на развод. (А надо сказать, что в эти годы, поскольку это было, соответственно, в [19]56-м году… [19]55-й год было, это был [19]55-й год, в это время замечательная была совершенно процедура развода. Сначала печаталось объявление в «Вечерней Москве», что такой-то разводится с такой-то. И после этого фамилии ещё неизвестно каких вот. Это объявление было в «Вечёрке»! Потом по радио объявляли в новостях, кто такой-то разводится с такой-то. Вот. И эта процедура длилась не меньше года, потому что сначала нужно было в этом – это очень было совершенно не сразу, потом было, значит, вот это…)
Короче говоря, развели нас… А уже на развод надо было, чтобы он приехал. И я написала, что прошло вот это объявление замечательное в «Вечёрке». [Смеётся.] Вот это вот, понимаете, этот сумасшедший дом, который даже вам в голову не может прийти молодым! Вот, Вы понимаете, да. Вот сначала, значит… Вот.
Короче говоря, я пишу ему письмо, что «Лёня, приезжай, потому что у нас такого-то числа – за месяц ему написала – будет развод». Он приезжает. Очень грустный.
Да, а там, значит, ещё произошла такая вещь, он стал как-то… Он уехал. И вдруг через примерно две недели или три приходит ко мне мама и в руках держит конвертик. И говорит: «Нинуша, скажи, пожалуйста, вот давай с тобой решим и всё сделаем, как ты хочешь. Вот это письмо от Лёни. Ты с ним разошлась, потому что ты его перестала любить?» Я говорю: «Да. Мне он… Он, – я говорю, – он меня настолько раздражает, и я забыла даже эту свою [любовь]…». (Потом это, конечно, была какая-то, была какая-то детская немножко любовь, вот такая. Это было что-то другое. Потому что очень быстрое было разочарование, было чудовищное совершенно.)
Я говорю: «Я… Я его не люблю». Она говорит: «Но ты понимаешь, раз он тебе пишет – он тебя любит. Поэтому вот скажи, пожалуйста, ты не будешь против, если я все письма, которые от него приходят, буду собирать и класть, – и показала мне место, это был вот этот шкаф, – на полке, на предпоследней полке, со стороны, – говорит, – вот под этим там я буду собирать эти письма. Ты хочешь – ты в любой момент прочитаешь. Не хочешь – не читаешь. Я буду всё время это собирать. Я не буду тебе говорить, что пришло письмо от Л[ёни.] Я вынула – и положила», – потому что мама вынимала письма и всю почту. А у нас ключа не было. Просто кто-то один этим занимался. И вот она собирала это всё.
И когда мне было уже лет двадцать шесть, мама… (Или двадцать восемь, вот так. Нет, не двадцать шесть и не двадцать восемь.) Мне было уже за тридцать, вот так. И мы уже должны были пожениться с моим мужем, с которым мы сорок лет прожили душа в душу. Это была вот такая любовь была замечательная, замечательное было счастье. Вот. Мама пришла ко мне и говорит: «Нинуша, вот я тебе отдаю, – пачка писем вот такая, большая, – Лёнины письма. Значит, теперь, – она говорит, – когда у тебя есть Миша, ты можешь их, наверное, прочитать. Делай, как хочешь, можешь их сжечь, но теперь они твои уже».
И я прочитала два письма. И я заплакала. Мне стало его… Потому что я была уже взрослая. И мне стало его по-человечески жалко, потому что я уже очень хорошо понимала все его примочки, все его ошибки и всё его взросление на этой тяжёлой… Там довольно тяжёлая…
Да, [усмехается] а ко мне пришёл… Когда вот я разводились, только были ещё объявления, ко мне пришёл – он написал сюда – вероятно, пришёл его друг. Позвонил мне и сказал: «Нина, мне надо с тобой встретиться». Я говорю: «Приходи». Игорь такой. Приходит. Мы сидим здесь в столовой. Он говорит: «Ты знаешь, ты не можешь себе представить, что творится с Лёней». Я говорю: «Что с ним творится?» – «Ты знаешь, что он хотел покончить жизнь самоубийством?» Я говорю: «Что имеется в виду? Ты расскажи мне, что за интересная история?» – потому что, зная его, я представляла себе, что… я была почти уверена, что это какая-то манипуляция. «Он бросился в шахту!» Я говорю: «Слушай, бросился, – я говорю, – он просто оступился. Вот и [всё]!» [Смеётся.] Он пришёл в такое бешенство: «Как ты можешь, он так тебя любит!» Я говорю: «Слушай, Игорь, давай так, ты вмешиваешься в чужую жизнь. – Я тогда, мне было тогда всего там двадцать, около двадцати лет. – Ты вмешиваешься в чужую жизнь, ты ничего не знаешь. Я не собираюсь с тобой этого обсуждать. Я уже подала на развод, о чём мы с тобой вообще говорим?!» – «Неужели ты не можешь по[нять]?» Я говорю: «Почему я должна это понимать? Я уже больше его не люблю и не хочу с ним жить. Так что давай этот вопрос закроем».
Короче говоря, оказалось, что он действительно упал в эту шахту. [Смеётся.] Он был такой очень безалаберный, такой вообще. Такой немножко заносчивый, такой вот, с такими манерами, но такой он был хороший добрый мальчик был, ме[жду про]чим, все в [моей] семье его очень любили.
(А Миша… [прим. – Рассказчик говорит о своём брате.] Миша его очень хорошо… У него была такая немножко губа чуть-чуть вот так, он так сидел за столом. А Мишка моложе меня на восемь лет, поэтому, когда мы с ним познакомились, мне было пятнадцать, а Мише было семь. И вот когда он пришёл сюда к нам в дом и сидели здесь, он говорит: «Знаешь, Лёня, на кого ты похож?» Лёня говорит: «На кого?» – «На ламантина!» [Смеётся.] Все так!.. Мама говорит: «Ну, Мишенька, знаешь…» – «Ну, мамочка, потому что…» Мама говорит: «Мы всё поняли. Всё поняли». Он так немножко засмущался, Мишенька, потому что понял… [Смеётся.] На ламантина!)
Он был так вполне, нормальный, интересный, спортивный. Кстати, был добрый, хорош[ий]… Он был неплохой человек: он был добрый, он не был таким… Но, кстати, ме[жду про]чим, ещё был очень ревнивый. Жутко совершенно ревнивый! Когда – это было что-то… Я потом уже читала, что такая немотивированная, ни на чём не основанная ревность, когда человек не даёт к этому повода – она всегда бывает у людей такого немножко шизоидного склада, такого очень…
Короче говоря, я написала Лёне, что приезжай, будем разводиться. Он приехал, пришёл. Мы сразу пошли в суд. А в это время… и со мной пошла… у меня была группа, подпевка была [усмехается]: Эллочка, Анночка, а из Ленинграда приехала двоюродная сестра Бебочка (я очень её любила, она приехала, она у нас очень часто бывала). И мы пошли разводиться. Я до этого уже всё знала про развод. Я сказала: «Лёня, скажешь вот это, это и это. Чтоб не было никакого мурыжева, чтоб ничего этого не было, – я говорю, – ты считаешь, что я права в своих вот? Я права, что я не хочу это растягивать?» – «Ты права». Я говорю: «В общем, скажешь вот так-то и так-то: что ты был груб, что ты это, что у нас нет общих интересов, вот так вот, – я говорю, – потому что другого им не понять». Вот. Нас развели.
Когда мы вышли из суда – вот тут это всё было где-то на Татарской [улице], где-то там – мы вышли, он говорит: «Девочки, давайте пойдёмте в кино», – Лёня. Я так посмотрела: «Ну, пойдёмте». А тут ближе всего у нас [кинотеатр] «Моссовет» на [улице] Вахрушина как раз. Мы туда пошли. Приходим туда, Элка так делает мне глазами, я смотрю – «Фанфары любви»! [Смеётся.] «Фанфары любви»! Так, я смотрю и говорю: «Девочки, – я говорю, – Лёнь, ты извини, это же…» Он говорит: «Я знаю». А тогда фильмы – они долго шли. Долго, долго, долго, месяц шли. Мы пришли на «Фанфары любви».
После этого мы пришли сюда, он мне говорит (а он меня звал Нинуська): «Нинуська, давай немножко с тобой пройдёмся тут по набережной». Я говорю: «Девочки, вы идите домой, а мы здесь пройдёмся». Мы с ним прошлись по набережной.
Потом мы с ним простились. Я сказала: «Лёня, ты… У тебя будет всё хорошо, ты старайся всё это забыть. И, – я говорю, – бывает так, что люди друг другу не подходят». Потому что мне было очень… (Я всегда очень была благодарна за любовь, за какое-то внимание. Я никогда не издевалась над своими поклонниками. Не могу сказать, что у меня какое-то… Но были люди, которые за мной ухаживали, а я… Но я никогда не… Вы понимаете, что я имею в виду: мне всегда было жалко человека, который не имеет ответного чувства. Вот. И поэтому я никогда этим не злоупотребляла.) И вот он ушёл. Это было где-то часов, наверно, уже семь вечера. А я говорю: «Когда у тебя поезд?» Он говорит: «Поезд у меня рано утром». Я говорю: «Я тебе желаю хорошей [дороги]», – в общем, сказала ему всякие хорошие слова, пришла домой – и потом забыла об этом. Потому что для меня это было – уже очень далеко отодвинулось. Вот настолько как-то был для меня какой-то… (Поскольку я вообще не понимала, что такое манипуляции, у нас дома никогда никто не врал, а уж про манипуляции я не говорю. Это в голову никому не приходило! И вот то, что он так мной манипулировал, меня… Если б я была постарше, я, может быть, его по[жалела], но всё равно бы ушла, но пожалела, потому что он делал это, манипулировал из чувства любви, он хотел меня сохранить. Но мне это показалось таким отвратительным тогда, ужасным и таким каким-то…) У меня сразу это ушло очень далеко, как то, вероятно, сознание человека, который привык чувствовать себя счастливым, – оно вытесняет куда-то это. И оно не вытеснилось, но ушло очень далеко. Как будто это было очень давно.
И на следующее утро я просыпаюсь… Я почему-то никуда не шла. Может, это было даже воскресенье. Потому что я не шла никуда. В институте я тогда училась. Звонок по телефону. А тогда телефон был только в столовой, но у нас была прямая связь, я прямо бегу с кровати, беру трубку. Поднимаю трубку… 10 часов утра. Может быть, начало 11-го, я только что проснулась. (А я всегда спала больше других. Засыпала мгновенно, т.е. мгновенно, у меня был сон абсолютный, как у папы, замечательный, наверное. Меня это спасало с моими сложностями, воспалением лёгких, вообще с болезнями и с моим, в общем, здоровьем довольно хилым.)
Лёня звонит мне. Я говорю: «Лёня, ты откуда?» – «Я сейчас на такой-то станции, я не могу, я не могу без тебя, я возвращаюсь! Я сейчас вернусь домой, я не могу жить без тебя!» И вдруг я понимаю – потому что я очень за это время сильно повзрослела, уже с тех пор прошло почти полтора года – я говорю: «Лёня, не делай этого! Ты попадёшь под суд! Ты сейчас находишься… Ты служишь! Ты сейчас солдат, и причём, служишь – вспомни, в каком месте ты служишь! Это дезертирство! Это ужасно! Да ещё там такая у вас секретность! Садись, мы не можем с тобой больше жить. Мы никогда с тобой не будем жить вместе, ты испортишь себе – всю жизнь испортишь себе. Я прошу тебя, во имя нашей прежней любви иди обратно и садись на поезд». И я повторяла это несколько минут. Он говорил: «Нет, я не могу, я должен вернуться, я сейчас вернусь к тебе. Я на коленях я буду тебя умолять, потому что я никогда, я всё понял!» Я говорю: «Неважно уже, Лёня, мы не можем вернуть то, чего уже сейчас нету».
Короче говоря, я его уго[ворила.] Я говорю: «Лёня, беги скорей!» – «Скоро он, через пять минут он уходит». Я говорю: «Беги скорей, садись, ни в коем случае не опаздывай! – Я говорю: – Я тебе желаю счастья, я желаю тебе… Беги скорей! Беги!»
Вешаю трубку. Смотрю на часы. Вот предположим, я не совсем точно помню, я помню только разницу. Предположим, 10 минут 11-го.
Пол-одиннадцатого опять раздаётся телефонный звонок. Папа: «Мартышка, у тебя всё в порядке?» Я говорю: «Да». – «Хорошо, – он говорит. А потом говорит, – Тут мне позвонили… тут… Тебе Лёня звонил?» Я говорю: «Да. – Я говорю, – всё в порядке, – я говорю дальше. Я сразу поняла. Я говорю, – Всё, в порядке. Он. Сорвался человек, нервы», – я говорю. Он говорит: «Хорошо. Всё хорошо, всё в порядке». Я говорю: «Он едет дальше».
Приходит папа. Идёт к нам в комнату, потому что у нас там меньше шансов на прослушивание, и говорит: «Мартышка, разговор такой: 20 минут…» 20 минут 11-го, предположим. Это был промежуток в 20 минут! От того, как я повесила трубку, и того, как мне позвонил папа!
Значит, я посчитала: через 10 минут папе позвонил очень крупный чин из ГБ и сказал: «Георгий Львович, – потому что он там со всеми был знаком, он был со всеми замминистрами был. Он даже с Берией был знаком, к сожалению (он приезжал на эти самые, но тогда… тогда уже Берии не было, неважно). В общем, он был знаком со всеми этими самыми, замминистрами и министрами среднего машиностроения. – Георгий Львович, Вы знаете, сейчас такая история была. Это ваш родственник». А у него фамилия Шнирман! И он попал под этой фамилией. Они не только… Говорит: «А что такое? Что, у вас сын?» – «Да это, – говорит, – зять. Это...» – «Георгий Львович, скажите только слово, я его за Можайск заправлю». Папа говорит: «Не надо, он хороший мальчик, ну что, – говорит, – они, – говорит, – ну что, ребята, – говорит, – в восемнадцать лет поженились, не сошлись характерами, не сошлись душой. Как-то что-то не получилось. Они – всё. Дочка моя не сердится на него. Ничего плохого не было. Просто она не хочет с ним жить». – «Георгий Львович, если скажете, я сразу его!..» Папа говорит: «Нет, не надо, я прошу Вас, не загоняйте его никуда». Т.е. уже по этой кэгэбэшной линии это через 10 минут было у папы! И папе позвонили.
А папа позвонил мне, чтобы узнать. Так, а я говорю: «Папа, всё хорошо, мы… – я говорю, – ты же знаешь всё…» – «Да-да-да, я знаю. А сейчас?» Я говорю: «Он звонил, так, – я говорю, – это нервы такие сработали…»
Он не стал [выяснять.] Он говорит: «Ну, прекрасно». Я говорю: «Дальше он поехал, дальше у него всё, будет всё хорошо. Он будет нормально. Он же, – я говорю, – ему же отпуск дали. Ну вот, – я говорю, – сейчас всё, всё будет. Всё хорошо».
[Получается, они поняли даже кто звонил?]
И фамилия Шнирман!
[Да, но он не называл свою фамилию, когда звонил?]
На нашем-то телефоне! Так они сразу вычислили! Я же стала говорить ему: «Лёня!» Я стала говорить, что… Они сразу выяснили, потому что мгновенно выясняется. У нас ГБ могло с любого автомата. Тем более, это было всё-таки… они ехали по маршруту, и там, уверена, там было полно гэбэшников, которые сразу могли, может, по вертушке даже передать, что он звонил, и даже о чём он звонил. Вот в чём дело. Уж этого я не знаю, этих.
Но могу сказать, по времени это было так: через 10 минут звонили папе, а папа мне позвонил ещё через 10 минут, потому что он 5 минут или 7 с ним разговаривал. Говорит: «Нет-нет, никуда не загоняйте, он хороший, добрый мальчик, – говорит, – чего, – говорит, – не сошлись ребята. Они разошлись». Вот такая вот история. Замечательная.
Все плакали, когда умер Сталин? О праздновании 800-летия Москвы и давке на похоронах вождя. Почему при Сталине не было парадов в День Победы (01:55:54 – 02:04:43)
Короче говоря, давайте теперь вернёмся к набережной. И вот сгорела у нас вот эта вот штука [на доме.] Потом у нас возрастало это всё. И когда Сталин… Да. И дальше интересная подробность. Умирает Сталин. 5 марта. В марте, в начале марта [19]53-го года. В школе сумасшедший дом: нас всех собирают в спортивном зале, учителя вот так шеренгой стоят, и все рыдают. Я на них смотрю – а я тогда уже очень всё хорошо знала и, конечно, мне в голову [не могло прийти], я была рада безумно, что сейчас, может быть, что-то будет другое – смотрю. А историчка (она была такая очень неумная, но такая, очень хорошая женщина) она стояла. У неё был такой длинный, витиеватый нос. Она стоит, и у неё с носа капают слёзы!
Они отплакались, сказали, что ужасно, как жить, непонятно, та-та-та-та. Все там присутствуют. Приехала даже наша тоже старая маразматичка, старая коммунистка Мария Ивановна [вспоминает] Покровская. Старая такая, несчастная жен[щина.] Мне её было очень жалко, потому что она так ходила вот так. А было ей лет только семьдесят с чем-то. У неё были такие раскосые глаза, голубые. Но она ещё была старая коммунистка. Но мне её было жалко, потому что она старая, очень плохо ходила.
[А зачем она к вам приехала?]
Нет, это все они стояли там. Они стояли в шеренге, когда объявили о смерти Сталина. И они все…
И вот когда всё это кончилось, ко мне подходят несколько моих подружек. Значит, у нас было четыре [подруги.] Но моя самая близкая подруга, кто до сих пор ещё у меня осталась, школьная. И ещё трое. «Ты знаешь, будут похороны, давай, где мы встречаемся?» Я говорю: «Мы нигде не встречаемся. – Я говорю, – вы что? – Я говорю, – я никуда не пойду». – «Как! Ты не пойдёшь! На похороны Сталина!» Я говорю: «И не подумаю даже!»
Потому что у меня уже была история. Ходынка. Нас чуть не задавили на 800 лет Москвы. Это будет во второй книжке. Чуть не раздавили, это была очень страшная история для меня. Но я её пережила благодаря бабушке, которая меня спасла в этой давке и держала потом. Но там была ужасная история, потому что на моих глазах там умер раздавленный девятилетний такой же мальчик маленький, как я. И я это видела всё. Это была ужасная история для меня. Но тоже папа как-то с мамой умудрились это завуалировать. Я это вспоминала, но тоже это как-то… Потому что я не рыдала. Но почти рыдала и говорила (когда мы вернулись оттуда) что он умирал на моих глазах. И я не могла ему, я хотела ему помочь, но я не могла. Папа говорит: «Так. Ты не могла ему помочь. Никто не мог ему помочь. Там была такая толпа, не могла проехать даже скорая помощь. Забудь об этом, и больше никогда у тебя такой, ничего подобного не будет». Вот. Я это помнила.
И поскольку у меня было плохо, не очень хорошо с сердцем и с дыханием всегда (у меня была дыхательная недостаточность из-за лёгких, вероятно, всё-таки осталась, хотя воспаления не было, но это осталось). Я сказала: «Я никуда не пойду. Даже не подумаю, – я говорю, – пойти!» – «Ты что! Это будет!..» Я говорю: «Вот так, – я говорю, – вы хотите – вы идите, но я не пойду никуда. А вы вообще дуры. Вас там вообще раздавят». – «Да ты что! В конце концов! Ты что, боишься?!» Я говорю: «Да, – говорю, – я не… толпу, – я говорю, – ненавижу. И не пойду я туда! Всё, – говорю, – отстаньте от меня», – и ушла от них. Надо сказать, так вот с ними грубо я никогда не разговаривала. Потому что меня это привело в бешенство. Вот это – они тоже пойдут Сталина хоронить!
Короче говоря, здорово их там помяли. Особенно одну там здорово помяли: туфли она потеряла, она пришла домой босиком. У Ритки было всё (у моей приятельницы) оборваны все – но хорошо, их не раздавили! Ритка говорит: «Ну, – говорит, – хорошо, что ты… – Ритка мне потом сказала, – Хорошо, что ты не пошла».
[Сколько вам тогда лет было?]
Мне тогда было шестнадцать. Я рано же пошла в школу. Поэтому я, тогда принимали… тогда все кончали в восемнадцать. И поскольку был отзвук войны, у нас было в классе четыре девочки по девятнадцать лет. А потом ещё было второгодничество. У Эллы тоже в школе были второгодницы. Значительно старше неё. Эллочка тоже в шестнадцать лет кончала. У нас все кончали в шестнадцать лет. Потому что… Папа кончал гимназию тоже в шестнадцать лет. Хотя её все кончали в восемнадцать. И он уже в двадцать два года – в двадцать два года! – он заведовал лабораторией в институте в Ленинграде. Его с третьего курса пасло несколько крупных учёных, чтобы забрать себе. Потому что он был совершенно, он был совершенно гениальный человек. Удивительный совершенно был человек, очень талантливый. Высоко талантливый. Вот.
И значит, произошла эта [давка на похоронах] в [19]53-м году. Но дальше произошла одна удивительная история. Вероятно, от того, что Жуков был символом для всего народа. Он был символом Победы, потому что он принимал парад. И это было во всех… А ведь тогда что? Тогда в [19]53-м году уже было телевидение. Телевидение началось в [19]49-м году, уже телевидение было. И по телевизору показывали парад Победы. Показывали, как он на белом коне подъезжает. Это потрясающее совершенно зрелище. Мы смотрели на это просто, я помню, вот так вот.
[А вы сами не ходили?]
Нет. На парад Победы – нет. Тогда просто никого не пускали туда! Я не знаю, кого там пускали. Но, по-моему, простых туда людей не пускали. Там, может, ветераны были, вот это. Всё.
Потом начались демонстрации. Но Победы, парада Победы при Сталине не праздновали больше, вот с [19]4…, начиная… На самом деле, война закончилась в [19]45-м году. Всё это засняли, всё это было в новостях. А потом это пару раз показывали по телевизору. Но по телевизору это стали по-настоящему показывать только уже потом, уже когда – в [19]60-е годы. Сталин хотел это выч[еркнуть], потому что Сталин хотел сам принимать парад. Но он боялся на лошади [ездить]! Он не умел на лошади ездить.
Наш дорогой Сосо не умел, Сосо не умел ездить на лошади. Он умел только разбойничать и грабить, стучать. Он же был стукачом в царской охранке в своё время. Почему – а что значит: бегал? Он не бегал, а его выпускали из этого… «У него было столько побегов!» Это были не побеги никакие. В общем, это был обычный, обычный разбойник. Но жутко хитрый и с сатанинской совершенно хитростью и сатанинским желанием стать вот этим вот… главным в мире! Просто – очень просто, просто главным в мире стать. Но, к сожалению, господь бог так устроил нашу землю, что никогда никому! Людям даже значительно более таким даже, я бы сказала, удачливым в военных походах и вообще [не удалось стать главными в мире.] Ведь Сталин ничего [не сделал.] Когда ведь знаете, когда началась война, что было? Он семь дней не обращался к народу! Он был в таком ужасном состоянии! И он потом сказал дрожащим голосом (я не слышала, папа рассказывал): «Братья и сёстры!»
И, кстати, у нас же было Лениным ещё, а потом Сталиным (но, в основном Лениным) – Ленин ненавидел совершенно церковь и священнослужителей. Триста тысяч священнослужителей были расстреляны, убиты! Сколько церкв[ей]… А про осквернение храмов я вообще не говорю. Там это, это было что-то чудо[вищное.] Вы до сих пор смотрите, как у нас тут наш главный, который сейчас построили, храм [Христа Спасителя.] Его же… как с него летит вот этот огромный, чудовищный [колокол.] Я когда это смотрю, до сих пор, у меня сердце начинает биться. Знаете, в это трудно поверить. Что вот это вот сделали. В это очень трудно поверить. Вот до сих пор! Я уже очень старый человек, мне восемьдесят два года. Но я не могу иногда. Я когда это смотрю, я вот думаю: «Не может быть! Как же, как же это всё-таки могло произойти? Как же до этого могло дойти?!» Но вот, дошло до всего. И ещё до более худших вещей, потому что разрушали не здания, а вымирали целые семьи. Вот.
И не было парадов Победы. При Сталине были только демонстрации трудящихся на 1 мая. А День Победы не праздновался при Сталине. И он стал праздноваться только в конце [19]50-х годов. Только. Это уже Хрущ устроил, Хрущёв.
И вот тут очень была интересная вещь: поскольку наша набережная была тупиковая, то все роды войск, которые участвовали в этом параде, не, это самое, не… Да! Но это я сейчас потом расскажу. Потом мы немножко вернёмся назад. Там был тоже интересный эпизод, связанный с набережной. Значит, они должны же где-то репетировать эту замечательную свою ходьбу, они же очень хорошо ходили. Кстати, ме[жду про]чим, на парадах очень… Я любила смотреть парады, потому что, когда их показывали… Потом уже, с удовольствием смотрела.
[Фрагмент интервью 02:04:43 – 02:12:02 не публикуется.]
Что происходило наверху, когда Берию расстреливали в бункере. Танки на Космодамианской набережной во время Августовского путча. Красота и роскошь ещё одной квартиры эпохи Сталина. Где репетировали парад ко Дню Победы? (02:12:02 – 02:21:45)
Теперь про нашу набережную. Когда умер Сталин, довольно через… Точно месяца я не помню, но это было в этом же году (в [19]53-м же году) я вышла из нашей подворотни и свернула не направо, к Павелецкому [вокзалу], а свернула сюда, к «Новокузнецкой». И дальше я прошла весь наш дом, а потом там было такое пустое место такое скверное, там какой-то сарай стоял. А потом его обозвали замечательно, мы всегда хохотали – его обозвали «Автосэрвис». Страшный такой вот сарай! [Смеётся.] А сейчас там домики такие с еврами, с евроремонтами – и всё.
Я иду, дохожу до штаба округа, иду по тротуару и думаю. Как всегда, у меня всегда планы, всё это, я никогда не хожу [без идей в голове.] Голова у меня всегда полна всяких интересных замыслов. Я иду и слышу голос: «Девушка, сойдите с тротуара». Я продолжаю себе идти, потому что я даже почти не слышу. Потом только я поняла. Второй раз: «Девушка, сойдите с тротуара». Я продолжаю идти. Потом так смотрю и вижу: ко мне идёт навстречу молодой парень с автоматом и говорит мне уже довольно строго: «Девушка, – и смотрит на меня, – сойдите с тротуара». Я тогда схожу с тротуара, и тут я вижу, что на тротуаре за ним стоит танк!
Да. Я прохожу и меня не пропускают, и меня не пропускают, там проход был. Сейчас он закрыт, потому что там это себе оттяпало, конечно, военное ведомство. Там был такой лакомый кусочек, Комиссариатский переулок, где даже машин… К нам теперь нельзя. Можно въехать только с одного моста и с другого, потому что всё перекрыто везде этими структурами. Потому что та ещё структурка, конечно, наша военная. Зачем они оттяпали себе это – непонятно? Ещё тогда бы – было понятно.
Короче, я прохожу мимо и вижу: там тоже танк стоит. Вот так: значит, вот стоит вот набережная, и вот это… [Рисует. см. фото: Zamoskvorechie_ShNG_mental_maps.pdf стр. 1] Тут вот идет улица, маленькая улица Осипенко (она называется Осипенко) а сейчас Садовническая. Садовническая. Я выхожу, иду сюда. Вот дохожу до – здесь вот он меня окликает. А вот здесь, вот сюда, на Садовническую, выходит Комиссариатский переулок, вот тут. Вот тут вот стоит страшный вот этот вот танк. Танк здесь стоит. И вот тут стоит танк, вот так вот. Вот тут. А вот тут арка, вот тут вот такой бугор. Это подземное, большое очень подземное помещение. И тут сидит Берия. И там его стреляют потом. Расстреливают. Берия. [прим. – Лаврентий Павлович Берия был расстрелян 23 дек. 1853 в бункере штаба Московского военного округа.]
[Да ладно!]
Да. Вот так вот. И вот эти танки стоят, потому что боятся всё-таки вдруг там же… Всегда борются какие-то силы с другими силами. Вот. Что вот эти вторые силы могут… Чтобы… Поэтому чтобы не было никакой… Во-первых, конечно, там всё время были наготове эти, эти, эти. Но тут на всякий случай стояло два танка.
[А Берию Вы видели?]
Конечно, нет! Конечно, нет! Я просто… Просто знали. Потом узнали, что там его расстреляли. И потом очень просто было сопоставить, потому что никогда…
Танки потом уже у нас появились вот тут уже около, где мост, вот тут вот. У нас появились – вот тут тоже стоял танк, вот тут. И в конце вот тут вот стояло два танка – четыре танка у нас было, когда было ГКЧП. Вот у Краснохолмского моста и у Устинского. Но это было уже всё такое картонное. Это понятно было, что…
Надюша с Анночкой тогда были в Ленинграде. Я им сразу позвонила. Анна говорит: «Что?» Надюша говорит: «Нина, что, что нам делать?» Я говорю: «Давайте всё-таки приезжайте сюда, но, – я говорю, – не волнуйтесь, всё будет хорошо». – «Ты всегда говоришь, что всё будет хорошо!» [Смеётся.] Я говорю: «Но я тебя уверяю, что всё будет хорошо! Потому что не делают, – я говорю, – такие вещи, шесть человек не могут что-то свернуть. Кому-то одному что-то надо – он собирается. А эти все – ничего они не сделают. – Я говорю, – Ты видела, как там? Кто там сидел? И как там у них руки дрожали? И на кого они все были похожи? Всё это чепуха». А она говорит: «Да, тут Собчак выступал по радио. И он сказал, что ничего не слушайте…»
А утром в Ленинграде вылез какой-то генерал и сказал, что сейчас ГКЧП, чтоб все сидели там, та-та-та. А после него буквально через какое-то время выступил Собчак и сказал, что я мэр этого города, и что никакого [переворота не будет.] Я главный и я говорю: ничего, никакого ГКЧП нету, вы все нормально живёте. Ничего вы не обязаны делать, никакого военного ничего нету времени. Никакого нет часа комендантского, ничего этого нету, спокойно живите. Вот. Я говорю: «Вот видишь, всё хорошо». И они на следующий день приехали.
Они в это время были в Ленинграде. Там сохранилась папина старая квартира. Но там уже было очень много [родственников.] Там жила вся как бы [ветвь моих двоюродных.] Потомство папиного одного брата и сестры [жило в Ленинграде.] У старшего не было детей.
Там, кстати, есть дом с эркером, он во второй книжке будет: улица Писарева в Ленинграде. Очень красивый дом. И квартира красивая. Но такая, несколько убитая была. Потому что там, где нет настоящей любви, где нету вот какого-то… там нету правильности какой-то даже, как интересно, нет правильности в интерьере. Вот нету там правильности. Вот там не было. Там была шикарная столовая, была у тёти Тамуси спальня шикарная, там какое-то красное дерево, чертовня какая-то. Полная какая-то карельская берёза, красное дерево. А тут у дяди Шуры – папин средний брат – у них было в их распоряжении две комнаты: огромный зал 40-метровый, который был в своё время гостиной, там стояло два рояля, там была библиотека, там был замечательный письменный стол такой огромный, красивый с такими дивными приборами чернильными. Там был эркер, в котором тоже было очень красиво. Там был огромный камин! А там были потолки 4,5 метра всего-навсего. И там было два трюмо – на 4 метра. [Смеётся.] Это была такая красота, вот эта лепнинина. И я помню, что я, когда первый раз туда попала, я поразилась, что как это красиво, но как это всё какое-то… неосвещённое людьми, холодное какое-то было всё. Потому что всё это было вот так.
Значит, парадов не было. И парады начались только в конце [19]50-х. Эти, военные парады. При Хрущёве начались. Не сразу тоже. И военные, которые должны были шагать замечательным вот этим строем – мне очень нравилось, как они шагали – должны, они должны были где-то это репетировать. И они репетировали у нас на набережной. И в течение месяца, весь октябрь у нас на набережной, начиная с 6-ти… нет, не с 5-ти, потому что темно. Наверное, это было где-то с 2-х до 5-ти, до 6-ти вот так вот, они приезжали сюда. У воды у гранитных [берегов] лежали бесконечные портфели, сумки и эти какие-то вот планшеты. А эти ребята ходили строем.
И вот как-то раз…
А это было очень интересно! [Усмехается.] Там оркестр играл, они ходили там. Они ходили целый месяц. Под конец надоедало, конечно, немножко это.
И вот однажды я помню, что я попала как раз в тот момент, когда они – они приходили, там собирались, строились, всё – а тут я попала как раз. Шла, я шла от Устинского моста… от Краснохолмского пешком, потому что я часто на трамвае не ездила, потому что мне нравилось пройтись. Я любила ходить. И, конечно, прошла, я шла по набережной.
Я вошла. И вот бам, ба-бам, ба-бам, ба-бам [изображает бой барабанов], а это маршевая музыка, та-там, та-там, та-там, та-там. И я начинаю идти – и я начинаю идти вместе с ними! Потом думаю: что такое? А те, кто стоят в ближнем ко мне ряду, на меня смотрят и смеются, молодые ребята. А мне неудобно. Я уже взрослая такая девушка, уже женщина взрослая. И мне ужасно неприятно, что надо мной они смеются! [Смеётся.] Через десять лет я бы тоже посмеялась. А тогда мне было неприятно. Я тогда останавливаюсь, начинаю топтаться на месте. Только начинаю немножко идти, и опять: пам, па-пам, па-пам, па-пам, иду, иду, иду вместе с ними.
Я пришла домой – рассказывала – все так хохотали дома за ужином (за обедом, когда мы вечером собирались). Я говорю: «Я сегодня маршировала! – Я говорю. – Вот не могу, вот барабан бьёт, и я в ритм иду, иду».
[Фрагмент интервью 02:21:45 – 02:23:16 не публикуется.]
Память поколений: о прадедушке из купцов и прабабушке. О бабушке Надежде, которую решили спасти от прививки. Можно ли было выжить, заболев чёрной оспой? Как болезнь отразилась на бабушкином образовании (02:23:16 – 02:32:12)
[Ваша бабушка и прабабушка – они были московские или из Питера приехали?]
Они все приехали из Питера.
А прабабушка – она была не питерская изначально. Бабушка была питерская, потому что её уже родили… Её отец, он был Иван Никифорович, он был купец какой-то гильдии. Он был очень талантливый, способный человек, который знал три языка и организовал торговлю. И у него была… У него был свой дом! Свой дом! Где внизу была лавка, а сверху жила вся семья. А семья у него была… Там был, сейчас я скажу: Степанида (это старшая, тётя Паня), бабушка Надежда, потом была Александра (баба Шура), потом была Елизавета (которую я узнала только уже, когда поехала на гастроли, она уже потом к тому времени в [19]70-е годы жила в Куйбышеве, уже была старая, Елизавета), потом там было… Между ними ещё был Ваня, потом был Алёша.
И потом были ещё – была Ниночка и Анночка, вот что интересно. Анночка умерла при рождении. И поэтому бабушка не очень… Ребёнок, она была тогда. Ей [прим. – Бабушке.] было лет пятнадцать, когда она умерла. Или шестнадцать. И она даже говорит: «Я как-то не понимала», – вот не стало её – и всё. «А вот с Ниночкой мы так, – говорит, – играли». Ей было два с половиной года. Она умерла тоже то ли от дизентерии, то ли от воспаления лёгких. Она умерла.
У бабушки вот эта вот мама её, которую я называла «синие ноги», звали её Екатерина Кузминична. Она была в девичестве Тепелихина. Замуж она вышла и стала Ларишева. Бабушка была Ларишева. А Шахова – Шахова у нас от мамы, по отцовской линии Шаховы они.
Отец у неё был тоже талантливый очень человек, который пришёл, работал… (в пятнадцать лет он пришёл в палату мер и весов и работал там писцом, потому что у него был… он очень хорошо рисовал, у него был каллиграфический почерк). А в двадцать два года, в двадцать три года он был уже (или в двадцать четыре) он был главным бухгалтером всей палаты мер и весов, по всей этой. Как он сделал там карьеру! Он был очень талантливый человек. Главное, очень порядочный, очень чёткий, очень такой работоспособный, и… Был удивительный человек.
Мамочка очень хорошо рисовала. И, кстати, Надя очень хорошо рисовала. [прим. – Показывает рисунки.]
И эта Екатерина Кузьминична, она была человек неприятный. Насколько был, как бы рассказывала мама наша, рассказывала, насколько был (говорит) замечательный дедушка, насколько её вот бабушка была [незамечательная.] И она была человеком даже в каком-то смысле слова… С тех пор, как я узнала, что пословица «о мёртвых только хорошо», что это только полпословицы, а на самом деле: «О мёртвых либо хорошо, либо правду».
[«Ничего» я слышала.]
Не «ничего», а «либо правду»! Вот.
Так вот, правда в том состоит, что она бабушку… Бабушка заболела чёрной оспой. Это будет тоже во втором томе. Потому что её не привили. Потому что тогда пошли прививки, первые прививки. И поскольку медицина в царское время – там врачи были совершенно другие люди! Они ездили по деревням, они там прививали. Потому что страна-то была деревенская, население-то, народонаселение было же, в основном, деревенское.
И в этот момент получилось, что из Ленинграда, из Петрограда тогда бабушкины родители – она только родилась. Она была… ей, вероятно, год был. Не больше, что-то в этом духе. (А может быть, полтора, я не знаю. А может, от года до двух, но совсем маленькая была.) А эти самые, родители [отца бабушки] её не видели. Так получилось, что в это время уже… Старшие родители. Бабушка же это… А те были… Иван Никифорович был крестьянин, был крестьянин. И они поехали показать ему [маленькую бабушку.] И это самое, та была странница, она вечно где-то моталась, это самое.
Поехали они туда показать бабушку. Это поехал, значит, Иван Никифорович и Екатерина Кузминична. Поехали двоих своих детей показать. Из Петербурга. В деревню. И когда они туда приехали, на следующий [день] – они там должны были пробыть несколько дней, они там заночевали, естественно, несколько дней ночевали, потому что тогда дороги были не сейчас, и, конечно, люди уставали, с двумя детьми – врачи пришли и стали всем делать прививки.
А Иван Никифорович, ему безумно понравилась бабушка. А у неё были золотые волосы, что нечасто бывает. Такие пшенично-золотые. И уже к этому времени они были такие… Были. И были хорошие. И очень голубые глаза. Он взял её и снёс далеко-далеко, куда-то там – капуста растёт. Он там положил её. Взял с собой два тулупа: на один тулуп положил, другим тулупом закрыл, чтобы она не мёрзла. И оставил там.
Они пришли. Сделали прививки ему, жене: сделали прививку Екатерине Кузминичне, Ивану Никифоровичу. И старшей сестре бабушкиной. Прививку не получила только бабушка. И когда они вернулись…
Я когда это я узнала там, я говорю: «Бабушка, а почему же он такой был… – хотела сказать «дурак»? [Усмехается.] – «Как же, почему?» – бабушка говорит… «Почему же он тебе не сделал?»
И когда бабушка вернулась, она заболела чёрной оспой. Но она осталась жива. Но у неё было вот так вот всё [показывает рытвины на лице.]
И эта женщина, Екатерина Кузминична, начиная с одиннадцати лет, говорила ей: «Ты, Надёнка, замуж не выйдешь. Потому что ты вот…» – как-то она её называла, то ли «швыренная», то ли «ковыренная». Каким-то ужасным словом. Я даже забыла это слово. Оно у меня просто вытеснилось, потому что я бабусю очень любила. И у неё потом это всё… поскольку она была очень маленькая, такие маленькие всегда умирали. А вот она выжила. Такой могучий организм был!
А потом с возрастом это стало проходить. И уже когда я знала её, у неё на лице ничего [дне было]: нежная-нежная кожа, такая была белая кожа! А когда мама [была молодая, она тоже] говорит: «Я тоже уже ничего [не видела.] У неё уже к двадцати годам ничего, практически, не было заметно на лице. К неё был нежный румянец, золотистые волосы. И я, – говорит, – говорила ей… (она вышла в восемнадцать лет [замуж], в девятнадцать лет родилась мамочка.) И мама моя говорила, вот она нам рассказывала, она говорила, – Мамочка! Приходи ко мне ангелом!»
Это когда она [прим. – Имеется в виду мама рассказчика.] ложилась спать, она [прим. – Имеется в виду бабушка рассказчика.] должна была одеть голубой халат. Потому что бабушка не ходила дома [в халате], дамы не ходили в халате. А она была там дамой, потому что в палате мер и весов бабушка очень образовалась. Потому что там все женщины были жёнами научных сотрудников. Там были учёные. И там было полно смолянок, т.е. женщин, которые тоже получили образование, а потом высшее образование. Там у одной, у маминой одной подруги мать была химиком! Это были… В царское время всё это было.
Короче говоря, приходи ко мне ангелом. Значит, бабушке она [прим. – Имеется в виду мать бабушки.] сказала: «Ты замуж не выйдешь», – и она отдала её не в гимназию, а в школу, где учили шить. Т.е. там было всё, так сказать, но знаний было значительно меньше. А потом, значит… На уровне, примерно, нашей семилетки, не больше, никак не десятилетки, даже приблизительно.
Но бабушка очень любила читать, и поэтому она была более образованна, чем остальные. Потому что она очень… у них дома были книги.
А потом она – вот какой иезуитский номер! – она повара наняла из какого-то, француза, из какого-то ресторана, который давно очень жил уже в России. У него была французская и русская кухня. И бабушку он обучал в течение двух месяцев. Дома, на дому обучал её готовить, когда бабушке было четырнадцать лет.
Как бабушка готовила, я передать не могу просто! Она потрясающе совершенно готовила. Но это было ещё, конечно, личное, потому что она, она была такой человек, который умел, очень умел и распределял время.
[Фрагмент интервью 02:32:12 – 02:35:50 не публикуется.]
Почему репетиции парадов перенесли с Космодамианской набережной. Люди из органов повсюду. О знакомстве с фотожурналистом Василием Малышевым (02:35:50 – 02:46:36)
Начались парады. Военные парады. И они [военные] здесь репетировали. Очень долго репетировали. Но где-то примерно в районе [19]70-х, по-моему, годов (вот точно я не помню, в конце [19]60-х или начале [19]70-х) построили дальше там мост. [прим. – Речь идёт о Шлюзовом мосте, который соединил Космодамианскую набережную и Шлюзовую набережную в 1965 г.] И туда продлилась [набережная.] И дальше уже машин было значительно больше. И сюда пошёл поток машин. И они стали репетировать в другом месте. Но репетировали они у нас больше десяти лет. Во всяком случае, точно совершенно. Вот эти вот, военные.
[А почему они в октябре репетировали?]
На ноябрьские. Ноябрьский. Они к ноябрьскому. Они два раза [в год]: они ноябрьский, а потом они… два раза в году. А потом они репетировали весь апрель к 9-му мая. Репетировали они два раза, потому что и тогда, и тогда до этого были демонстрации. А тут были парады. Оба раза были.
И в общем надо сказать, что… Вот я только однажды была на демонстрации, и то потому, что наша школа пошла. Всё. А потом так понравилось! И я когда увидела… И меня все спрашивали: «А ты Сталина видела?» Я говорю: «Видела». Он стоял там, на мавзолее. В каком-то году это было, по-моему, в [19]51-м. Так вот. Вот так делал. [Изображает напыщенное лицо, машет рукой.] Такая мразь крысиная, кошмарная!
Я, кстати, ме[жду про]чим, видела его неприлюдную фотографию. Я [вспоминает] в [19]67-м году совершенно случайно познакомилась с двумя очень [усмехается] по-разному интересными людьми. Причём, познакомилась на похоронах. Значит, у моей приятельницы, которая потом оказалась секьюрити…
Нам всё время подсовывали каких-то секьюрити (работали в ГБ). Нам подсовывали этих самых, чтоб за нами следили. И в доме у нас была одна девочка, которая Анина подруга (она потом оказалась гэбэшницей). И меня, я летела в самолёте, и ко мне подсела какая-то девушка. А я вот тут с папой. Мы с ней сошлись. Потом она была моей подругой. Короче говоря, она была из гэбэшной семьи. И когда… Я, конечно, тогда этого совершенно не подозревала и не знала, а поскольку папа ничего не рассказывал, поскольку дома у нас никаких подобных разговоров не водилось самых главных (а антисоветские разговоры у нас такие: когда нам что-то объясняли, нам объясняли это не в столовой, а где-то в другом месте). Что-то такое если происходило, то так вот [в комнатах] это объяснялось.
И однажды, когда с Эллой пытался познакомиться два раза на улице, где-то в метро молодой человек, Элла говорит: «Что он ко мне привязался?» Папа говорит: «А ты не думаешь, что этот не просто, так сказать?» Элла говорит: «Господи! Я вообще сейчас ему, так сказать, [смеётся] по морде дам», – что-то она сказала достаточно грубое, несвойственное ей. Папа говорит: «Не надо ничего, а просто, – он сказал ей как-то, – ты смени маршрут», – вот как-то так. (Но она из Долгопрудного ездила, поэтому… Физтех-то в Долгопрудном же находился. А тогда паровоз туда ходил. И тогда надо было… В общем, что Элка перенесла, надо сказать, потому что она добиралась туда 2,5 часа и 2,5 обратно. Потому что надо было туда доехать, потом надо было… 2,15, по-моему. Потом… Поезд туда шёл, паровоз туда шёл почти час! В Долгопрудный. Вот. А надо было туда поспеть к 10 утра, так что она вставала в 6 утра. В общем, это была жуть. Приезжала очень поздно, потому что у них был очень большой объём.)
[Фрагмент интервью 02:39:33 – 02:41:09 не публикуется.]
Теперь набережная стала уже проезжей. По ней ехало очень много народу, потому что ехали дальше, туда, к «Пролетарской» туда – в общем, поток машин ехал. Но тогда машин было мало, на самом деле. Вот. Наша машина стояла вот здесь.
[А Вы рассказывали про знакомства и неприлюдную фотографию Сталина, которую вы увидели.]
А, да-да-да-да, да, действительно, я отвлеклась. Вы меня сбивайте с веток, на которые я уползаю от ствола! Вы меня оттуда так, сгоняйте! [Смеётся.] Как нормальную мартышку, которая начинает, это самое, там крутиться где-то.
Значит, и вот эта секьюрити, Оля, мы с ней дружили. И у неё был такой не без вальяжности папа, который ко мне очень хорошо относился, вероятно, как к девочке из интеллигентной семьи. И он играл на рояле, что тоже меня… Но я с ним мало общалась. Но тем не менее.
Он довольно рано умер. Ему было там не больше шестидесяти лет. Даже, может, шестидесяти не было. И Оля мне позвонила: она очень плакала. Я, конечно, сразу помчалась и была на похоронах.
И когда я пришла на похороны, первое, что я там заметила… (потому что сначала люди хоронят, потом они идут на поминки). Она говорит: «Я тебя прошу, только ты…» А я говорю: «Я тебя не брошу, не волнуйся, я буду на поминках». Хотя я не понимала этого смысла тогда – тогда не понимала. Но я говорю: «Не волнуйся, я буду с тобой на поминках. Вернёмся, – я говорю, – вместе». И вот когда мы выходили, я вдруг заметила… (И всё народ был какой-то был такой вот, примерно, как у нас в доме. Номенклатура. Т.е. это было всё ГБ.)
И вдруг я вижу, что вот такая красная подушка, бархатная, и на ней лежат награды. И человек, который это несёт, я на него посмотрела, я поразилась: это был человек с другой планеты, абсолютно другой человек! У него было такое ясное лицо, такие большие, синие, такие зоркие глаза. Не режущие, не такие бурлящие, не сверлящие. А такие орлиные глаза. И такое в них светилось какое-то… такая замечательная, знаете… Как бывает, вот, смотришь на человека, и в глазах есть какая-то вот глубина. Ты понимаешь, что там есть какая-то очень большая, страшно интересная и прекрасная жизнь. Вот у него такое. Я его когда увидела, я… И потом, когда мы вернулись, я говорю (я была совершенно потрясена) я говорю: «Олечка, а кто этот человек?» Она говорит: «Я потом тебе расскажу». Ну, хорошо.
И со мной си[дит]… И говорит: «Ты будешь сидеть с дядей Васей». Я говорю: «А кто это дядя Вася?» – «Он очень крупный человек. Он директор АПН».
[А что такое АПН?]
Это новости все вот эти. Агентство по… [прим. – Рассказчик говорит о Совинформбюро, которое в 1961 г. Было преобразовано в Агентство печати «Новости».] В общем, всё, что [было] связано с фотографией в Советском Союзе проходило через него. Вот так скажем. Он там директор[ом был.] Вот. Дядя Вася. [прим. – Скорее всего, речь идёт о Василии Алексеевиче Малыше (1900 – 1986), который в 60-е гг. стал председателем секции фотожурналистов АПН. В.А. Малышев был мастером художественной фотографии. Героями его работ стало огромное количество знаменитых людей.]
Мне тридцать лет, а дяде Васе семьдесят. Дядя Вася начинает [смеётся] делать какие-то странные, значит, эти самые, говорит какие-то (ужасно я не люблю) вот эти глупые комплименты. И потом говорит: «Нина, Вы знаете, – там то-то, то-то, то-то, потому-то, потому-то, – я очень хочу Вас сфотографировать!» Я говорю: «Василий, – по-моему, – Алексеевич, – я говорю, – зачем?» – «Нет, Вы там такая-то, такая-то, такая-то, поэтому будет замечательный портрет. Скоро, через два месяца уже будет выставка в Манеже портретов, вообще выставка фотографий, посвящённая 50-тилетию Советской власти». [Смеётся.] Я говорю: «А какое я к этому отношение [имею]?» – «Нет, ты же, значит, вот, поёшь, мы напишем: певица Нина – певица». Я говорю: «Нет, я пока что не певица, я только ездила пару раз в гастроли, но я ещё не певица. – Я говорю, – Я Нина, я Нина, – (тогда я была Шнирман, я потом фамилию сменила на Шахову) я говорю, – Я Нина Шнирман». Он говорит: «Хорошо, напишем Нина Шнирман. Портрет Нины Шнирман». И вот… Он говорит: «Я буду дома фотографировать: у меня там свет есть, всё».
Я пришла к нему домой.
Да! А мне, эта самая, Оля говорит: «Ты знаешь, ты с ним только будь с ним настороже, потому что он сказал мне, что он хочет на тебе жениться». Я говорю: «Оля, что такое значит – жениться на мне! – Я говорю. – Ему семьдесят лет! Он мне годится в дедушки. Даже не в отцы, а в дедушки! Какой жениться! И вообще, – я говорю, – я совершенно, так сказать, даже об этом…» Она говорит: «Вот учти этот момент». Я говорю: «Я учту». [Усмехается.]
Пришла – он стал, значит, меня фотографировать. Да! Перед тем сначала он начал меня, мне рассказы всякие делать, которые должны были символизировать, чтобы я как-то прониклась его высоким положением в обществе. А надо сказать, что меня это совершенно не волновало, потому что около меня был мой отец, который, так сказать,… около меня был академик Соболев, около меня был, к нам приходил в дом академик Семёнов, который был нобелевским лауреатом. И меня это совершенно всё [не касалось.] Вообще вот, вообще я была чужда. Меня совершенно это не волновало, какая…
О дружбе с семьёй математика Сергея Соболева. Забавные истории на даче у Соболевых: как математик Михаил Лаврентьев с женой Георгия Шнирмана хотел познакомиться, как президента Грузинской Академии Наук приняли за шофёра. Будут ли дочери академиков играть во дворе с сыном дворника? О двух фотографиях Сталина из секретного архива фотожурналиста Василия Малышева. Как Малышев фотографировал (02:46:36 – 02:59:06)
Мне как-то… Когда мы приехали как-то раз к Соболевым на дачу, к академику Соболеву. [прим. – Сергей Львович Соболев (1908 – 1989) – математик, герой Социалистического Труда, лауреат трёх Сталинский премий и Государственной премии СССР.] [Смеётся.] Там была ужасно смешная история, потому что… Мы приехали туда, и вдруг мы видим, что накрыт стол во дворе.
А у него тоже была академическая, там, в Мозжинке, по-моему, была, был большой участок… Не там, где вот… У этого было в Одинцово, в Жаворонках (у генерала). [прим. – Рассказчик выше говорила о даче Андрея Илларионовича Соколова.] А у Соболева была, в Мозжинке была дача. Тоже был гектар. И дом был хороший очень построен. Он не строил, ему там… Уже был построен дом. У него была большая, кстати, семья. У них было шесть или семь детей. Вот. Очень дружили, мама очень дружила с Ниной, очень жалела. Они потом уехали. Они, во-первых, разошлись потом и уехали в этот, в Новосибирск, потому что Лаврентьев и Соболев основали в Новосибирске… Почему такой город продвинутый? Там сделали Академию наук. Они это сделали, два вот этих человека. [прим. – М.А. Лаврентьев, С.А. Христианович и С.Л. Соболев создали Сибирское отделение Академии наук СССР.] Ой, а Соболев, дядя Серёжа, – он был такой необыкновенный человек. Он был, кстати, гениальный математик, но не очень умный, но страшно добрый. И очень любил детей. И вот когда… Он в эвакуации к нам пришёл в гости. Вот представьте иезуитский номер, опять наша Советская власть: академик приехал – он был уж тогда, он был самый молодой академик в Советском Союзе. Он пришёл к нам в гости и что-то принёс. Мама раскрывает – а это пирожное. А мы… мы хлеба не [ели], мы еды не видели! Мы разделили на три части. Анночке это вообще даже не понравилось, потому что она не могла: уже всё это скукожилось и не работало уже всё. Я съела с большим удовольствием. Эллочка тоже съела с большим удовольствием. Он совершенно чудный был человек. Вот, значит, дядя Серёжа Соболев.
Так вот, значит, мы… Сейчас я к тому, что мне было наплевать совсем на его эти все регалии, на всё вот это, меня совершенно это не волновало.
Мы приехали в гости как-то, мне тогда было, наверно, вот только-только я развелась с Лёней. Мне тогда было, значит, девятнадцать или около двадцати лет. Мы приехали: на машину сели и поехали в Мозжинку. Мама говорит: «Ты хочешь к Соболевым?» Я говорю: «Давай, я давно не видела тётю Асю и дядю Серёжу. Поехали». Мы приезжаем, а там стол накрыт, почему-то, на это. Мама говорит: «Ася, в чём дело?» – «К нам сейчас приедет делегация международная. Там сейчас симпозиум математический. Его возглавляет Серёжа. И он пригласил их на дачу, значит, на обед». Мама говорит: «Мы тогда уедем». Она говорит: «Вавочка, не уезжай, пожалуйста, укрась наш стол!» – и всё. Я говорю: «Мам, а что делать?» А у меня получилось так: у меня было очень красивое платье, которое мне бабушка сшила, из такого жатого ситца, здесь такое довольно – не декольте, тогда декольте не де[лали] – довольно такое открытое, и с такой здесь была такая бейка. Оно было по фигуре, с такой юбкой такой, тоже внизу тут тоже бейка. И я одела старые-старые босо[ножки]! Я говорю: «Мам, у меня старые тут босоножки». Она говорит: «Да какая разница?» Я говорю: «А, поехали!» И у меня старые такие очень, занюханные, чуть ли не рваные босоножки. Я говорю: «Мам, у меня такие босоножки…» Она говорит: «А, не обращай внимания, будешь сидеть за столом, их будет не видно». Я говорю: «А, действительно, наплевать!»
И вот приезжает эта делегация на двух машинах, их восемь или девять человек. Они приезжают все на чёрных «Волгах». Мама садится… [усмехается] очень тоже смешная была история: её сажают, маму сажают, и всех рассаживает тётя Ася с дядей Серёжей. И, значит, маму сажают с каким-то… Я вижу такое лицо… Потом это оказался академик Лаврентьев. [прим. – Михаил Алексеевич Лаврентьев (1900 – 1980) – математик и механик, вице-президент АН СССР, сооснователь СО АН СССР, герой Социалистического Труда.] А мама уже была… они были знакомы. Потому что они были на одной свадьбе: дочка Садовского вышла замуж за сына Лаврентьева. (Это морганатические браки: у неё был, она очень любила одного геолога. А он ей сказал: «А что это твой геолог? Что он?» И в общем, заставил её выйти замуж. А Мишка такой был дурак ужасный! [прим. – Речь идёт о сыне М.А. Лаврентьева. Михаил Михайлович Лаврентьев (1932 – 2010) – математик, академик РАН, лауреат Ленинской премии.] Вот отец у него тварь, но, конечно, очень жёсткий человек. Но он был умный человек, неглупый и нормальный математик. А этот был – тётя Зина говорит: «Вот, – говорит, – дурак дураком, всё бегает к папаше, – говорит, – даже диплом написать не может сам!» [Усмехается.])
Мама была на свадьбе и тоже сидела с ним. «Но этот, – она говорит, – сидит так и начинает с мамой говорить по-французски, какие-то отдельные слова». А мама французский тоже знала, но она хуже значительно знала, чем английский. Она ему отвечает. Но поскольку мама очень стройная, очень изящная, и очень всегда правильно была одета, никогда не была обвешана какими-то этими самыми, как ёлка, как наши дамы эти самые. И он, значит, с ней… И в конце концов, мама его узнала. «Но, – говорит, – я поддерживаю некоторое время. Потом он так поворачивается, – говорит, – ко мне, - говорит, – “Un peu cognac, немножко коньяка”». Мама говорит ему (как его, Лаврентьев… забыла отчество): «Вы разве меня не узнаёте? Вспомните свадьбу Вашего сына». Он говорит: «Варвара Николаевна!» [Смеётся.] Вот.
И вот дальше меня сажают с каким-то таким толстым мужиком таким [делает толстый голос] с такой шевелюрой. Такой грубый, такой пошлый. Он всё время говорит тосты. Я смотрю – и ко мне начинает так: «О, – там, – на этом столе…» – чуть ли не тост за меня там сказал, за прелестных девушек, в общем, кошмар какой-то. Для меня это был полный кошмар. Дальше перемена идёт, значит, это закончилась, всем дали погулять, дальше там будет сладкое, что-то ещё там, фрукты. Мы выходим, я говорю: «Пап, что меня посадили с этим шофёром, это самое, «Волги»? Зачем он, эт самое?» Папа говорит: «Он не совсем шофёр «Волги»». – «А кто он?» – «А он, – говорит, – эт самый: президент Грузинской академии наук Векуа». [прим. – Илья Нестерович Векуа (1907 – 1977) – математик, президент АН Грузинской СССР, герой Социалистического Труда.] [Смеётся.] Вот.
Поэтому для меня вот все эти регалии… Не потому, что я их, а потому что у нас дома прежде всего всегда было, вот…
Я пришла, говорю: «Мама, скажи, пожалуйста, а почему наши девочки…». У нас был дворник – татарин. И я спросила [у девочек]: «А почему вот Чи\нар, его сын, – я говорю, – почему он с нами никогда не играет, ни в лапту, ни в это, почему?» – «А кто же, он же сын дворника!» Я говорю: «Ну и что?» – «Он татарин!» Я говорю: «И что, если он сын дворника и татарин, он что, с нами играть не может?! А почему, – я говорю, – вот с татарином нельзя играть?» Я не понимала ещё этой… Мне тогда было лет восемь. Я не понимала вот этой жуткой совершенно правды. А девочки постарше [понимали.] А одна девочка так на меня посмотрела, говорит: «Ты спроси у мамы». Я пришла домой, говорю: «Мама, скажи, пожалуйста, почему наши девочки во дворе [не хотят играть с Чинаром?]», – причём, девочки всё-таки из более или менее, во всяком случае, образованных семей. Потому что это была Академия Наук.
[Это на Мещанской ещё было?]
На Мещанской [улице], да. Потому что здесь я уже во дворе не играла, не ходила, уже занималась другими делами: в одиннадцать лет я была уже [усмехается] очень сильно занята. Вот.
И мама говорит: «Что ты сказала?» Я говорю: «Они не хотят играть с Чинаром, потому что он сын дворника и татарин!» Бабушка вот так закрыла – а это бабушка тут присутствовала – она так закрыла лицо, говорит: «Боже мой! – Она что-то сказала, – какой ужас, куда же мы, что же будет дальше, что стало с нашими людьми!» У мамы стало такое строгое лицо, она говорит: «Нинуша, если люди не хотят общаться с сыном дворника и татарином, это ничтожные, глупые и ничтожные люди». И я сразу поняла всю вот эту гадость вот этого обстоятельства. Сразу поняла. Она это сказала – и я сразу поняла. Потому что я этого…
[прим. – Далее рассказчик возвращается к истории о том, что фотожурналист Василий Малышев решил её сфотографировать.] И вот Василий этот самый начинает мне рассказывать, как он у Сталина был дома и как он делал его фотографии. «Я сейчас Вам покажу!» Я говорю: «Интересно, а что у вас… – а я тогда была уже в курсе всех этих секретных дел. Я говорю, – неужели у Вас плёнку не отбирали?» А он говорит: «А как же! Надо мной стояло всегда, – говорит, – два этих самых, генерала ГБ. И вот только я, – говорит, – фотографировал, делал, они… Только пошло в работу, сразу же всё забирали. Но, – говорит, – два снимка я притырил, – он сказал. Он говорит, – вот так получилось», – и показывает мне.
Вот теперь, Ирочка, значит, так. Первый снимок – это Сталин в полупрофиль. Почти что в фа[с], вот так вот. Такое страшное [лицо]! Вот, значит так: у него идёт лоб вот так вот, потом всё раздувается. И он весь покрыт вот этой самой оспой, которой у бабушки [не осталось.] Потому что он болел, вероятно, в более взрослом возрасте, и у него это не зажило. Жуть! И причём он похож на какую-то страшную, очень страшную крысу, которая сейчас вот будет нападать, т.е. такую, за которой… Вот за ним буквально смерть стояла, вот такое у него лицо.
Второй снимок наоборот очень смешной. Угол стола. Здесь сидит Сталин, здесь сидит Ворошилов. И они оба вот в такой позе [подпирает подбородок рукой и безвольно обвисает, приоткрыв рот.] Они оба вдрабадан пьяные и сидят в такой позе: «Ты… эй, ты мне друг?!» [Смеётся.] Вот этот снимок… Я говорю: «Василий Алексеевич, как же Вы не боитесь такие снимки дома хранить?» Он говорит: «Да, – говорит, – сейчас уже, – говорит, – это не страшно». Потому что это были другие годы совсем. Это был [19]66-й год, вероятно. Или [19]67-й. [19]66-й, наверное, всё-таки. Вот. И, значит…
Он оказался директором вот этой огромной структуры, которая занималась всеми новостями, всё, снимки делала. А у него был огромный ресурс. Потому что кто мог вот такое сделать: снять на очень хороший, конечно, заграничный фотоаппарат? (Но у нас, кстати, «Лейка» тоже был хороший очень аппарат). Потом увеличить это? У кого была такая бума[га]? Такая бумага не продавалась, её не было в продаже.
У меня где-то он даже сохранился, этот [портрет.] Но я сейчас не помню. Я потом как-нибудь Вам его покажу.
[Фрагмент интервью 02:56:41 – 02:57:12 не публикуется.]
Он делал цветные, в основном, портреты, у него было очень много женских портретов, почти не было пейзажей. В основном, были портреты. Я посмотрела. Он мне показал, всё. Значит, я сказала: «Да, вот эти, вот это мне нравится, вот это», – потом то, что мне не нравилось, я не комментировала [усмехается], вот.
И он стал меня фотографировать. Потом сфотографировал, потом говорит: «Нина, я хочу, чтобы Вы сами выбрали, и…»
Да! И вот он ещё там сделал такой один фокус. А у меня было такое платьице, вот такое вот, и я накинула… Почему-то я и думаю: «Чёрт побери, – думаю, – у меня голые… голые руки, – думаю, – я накину на это…» – и я накинула такой чёрный шифоновый шарф, такой очень красивый. Так вот закинула. Думаю, вот приеду, вот буду там с ним что-то, потому что мне не нравится… Так что он выкинул! Он говорит: «Нина, ну как же так! Вы закрываете… Да вот у Вас такая там и тра-та-та шея, там это, это всё. Давайте…» И он вдруг подходит ко мне и вот так – но тихонечко, правда, не грубо, – вот так рукой: «Давайте, Ниночка, пожалуйста», – и он мне с одной стороны спускает (немножко, вот так) спускает вот так вот эту вот бретельку вот этого платья. Я меня такое красивое платье. Очень такое тёмное такое, разводами, разводами разноцветными. Очень симпатичное платье, довольно тогда уже короткие носили, вот. Но я сижу на стуле, я обозлилась, правда, здорово.
Значит, он меня [сфотографировал.] Сделал двадцать с чем-то… всю плёнку израсходовал. «Я, – говорит, – сделал контрольки маленькие. Вы выберете. Мы с вами выберем». Потом я пришла, я посмотрела, всё мне не нравилось. Я говорю: «Вы знаете, Василий Алексеевич, что-то мне…» [усмехается.] Он говорит: «Что, ничего не нравится?» Я говорю: «Как-то я не чувствую, что я – это я».
А вот год назад или полтора, когда Надя увидела этот портрет, она говорит, Надька говорит: «Слушай, – говорит, – я помню этот портрет с детства, почему он у тебя никогда не висел?» Я говорю: «На чёрта мне нужно такая глупость! Во-первых, свой портрет вешать мне не нравится, а потом мне этот портрет [не нравится]». Она говорит: «А мне нравится, очень хороший портрет». [Смеётся.] Я так хохотала! Но мне он действительно очень [не нравился.] Мама тоже очень хотела, но я маме его подарила, я говорю: «Мама, хочешь – повесь».
[Фрагмент интервью 02:59:06 – 03:04:14 не публикуется.]
Взрыв дома на Космодамианской набережной: реакция соседей, СМИ и спасателей. О Георгии Шнирмане до войны: про аспиранта Садовского, часы от Филина и чай с Тухачевским. Белочки и зайчики взрывают тротил? Что папа рассказывал и что не рассказывал. Почему сосед не здоровался с Георгием Шнирманом (03:04:14 – 03:19:51)
Теперь про набережную. Значит, [вспоминает] в [19]60-е годы мы сидели все за столом. И вдруг раздался чудовищный звук. Абсолютно чудовищный. Мама так сделала руку и говорит: «Жоржик, это что, война началась?» Папа так сделал голову: «Нет, – говорит, – это взрыв». Мы так все смотрим. Все замолчали за столом. Он говорит: «И довольно… Очень близкий взрыв». Я говорю: «Папа, я пойду посмотрю». Он говорит: «Нет, пожалуйста, сиди. Давай ужинать. Завтра посмотришь». Я говорю: «А как близко?» Папа говорит: «Очень близко».
Я утром встаю раньше всех, потому что меня это… совершенно этот звук меня потряс. Потому что звук такой был, что у нас дрожало здесь всё, в нашей комнате. Я выхожу и бегу туда и вдруг вижу странное скопление людей около… очень близко от Краснохолмского моста, вот как ты идёшь здесь. Я туда подхожу, а там часть дома взорвалась, её нету. И там… Потом там всё перек[рыли], я уже успела посмотреть, я думаю: «Какой у[жас]!» Т.е. нету двух подъездов практически. Нету их.
Короче говоря, вот поэтому сейчас… Т.е. дом стоял немножечко по-другому. Это был другой дом. Вот там, где ты ходишь, и тут вот – это уже, так сказать, остатки вот этого дома, который взрывался. Там оставили часть, часть достроили, но часть построили новую. Но часть оставили всё-таки.
И что там творилось, боже, там такое! Вот утром там были ещё клубы пыли, какой-то огонь я видела, милиция какая-то. Оцеплено не было, только было вот что-то, верёвка какая-то. Когда я ехала уже обратно, там уже нельзя было пройти. Т.е. пропускали так к вечеру. Только к вечеру! Т.е. прошли сутки! Когда, так сказать, уже там начались какие-то работы. Так вот скажем прямо.
Ничего! Нигде ничего не появлялось! Нигде ничего не печатали: сколько народу погибло. Потому что там погибло, это ночью произошло, вечером, очень поздно, и там, конечно, все люди были дома в этот момент. И погибло там очень большое количество. Но дом, правда, не десять этажей (там дом был пятиэтажный), но всё равно там было, по крайней мере, два подъезда, квартир… Если пять этажей, квартир двадцать там точно уничтожено было. Вот. Сколько там народу погибло!
[А из-за чего был взрыв, неизвестно?]
Господи. Нигде же ничего не было. Наверное, это всё-таки газ. Вероятно, утечка, вероятно, была. Утечки там…
Регулярно ходили… Мосгаз работал очень… ну, не хорошо, а так сказать, я бы сказала, по времени. Вот раз в полгода приходили, спичку зажигали, к этому, к этому, зажигали, смотрели здесь, нет ли утечки. Потому что она же где? Кран, который закрывается, вот тут газ поступает сюда. Утечка может быть только здесь.
Но может быть, конечно, человек оставит, что-то забудет, потом… Но это пожары, как правило, случаются. А тут…
Но там потом говорили, что там была какая-то неправильная проводка, сделанная через… в подъезде или где-то внизу. Что-то было там неправильное и что-то было там не… не то что атрибутированное, а вот непрошедшее нужную проверку в очередную проверку, если можно так выразиться. Но опять это всё разговоры, что там было – никто не знает.
[А какой это номер дома?]
Номер дома? Я даже не знаю. Но, наверное… Сейчас. Но это самый последний дом, как идти у нас вот тут вот…
[А нарисуйте.]
[Рисует. см. фото: Zamoskvorechie_ShNG_mental_maps.pdf стр.2.] Вот это мост, это река. Я не рисую всякую растительность. Вот это набережная. Это тротуар по набережной. Вот тут вот наш дом. Вот так вот. Тут везде деревья. Вот это сейчас нарисую. Вот этот дом 32 – тогда он был дробь 34. Сейчас почему-то его переименовали в тире. Вот этот дом 36. Вот этот дом 28. Потому что центр – туда. Вот. Дальше здесь шло несколько домиков, здесь был проход на Осипенко. Так. Дальше тут были опять небольшие дома, а вот тут был большой вот этот дом. Вот он был последний. Он стоял довольно… Вот так вот тоже, он был пятиэтажный. Вот так он стоял, вот так стоял, и вот так стоял. Там было, по-моему, четыре подъ[езда], вот, по-моему, здесь. И подъезды были на набережную. У нас подъезды – у нас подъезды вот тут вот.
[Да, внутри.]
Значит, вот тут арка и вот тут арка. А тут – вот тут вход и вот тут вход. А тут были подъезды вот здесь. И вот тут средний вот тут вот где-то вот тут вот… Нет, не так, вот так – вероятно, последний взорвался. Вот так вот. Вот эти два подъезда, а вот прямо напротив, практически, уже напротив моста.
И вот тут уже идёт проход на… Вот тут начинается дальше, пройти сюда – Осипенко, и тут начинается Садовое кольцо. Которая идёт от моста и дальше так вот… Понимаешь? [прим. – Речь идёт либо о доме 40/42 с.3, либо о доме 46/50 по Космодамианской набережной.]
[Т.е. сейчас осталась вот эта часть дома?]
Да, она осталась. И вот так вот сейчас вот – вот так. Они построили. Это был жуткий, чудовищный взрыв. И это месяц здесь раз[бирали] – месяц разбирали они здесь! И дальше, через день, люди же приезжали – а на набережной было народу мало, в общем, набережная, потому что, было два больших дома, а остальное – это так, ерунда. Был наш дом и вот тот дом там. Там тоже сюда приходили, я видела одну свою знакомую, из того вот дома, который около Устьинского моста (бисквит в шоколаде, который мы звали). Вот. Но через день уже пройти можно было только вот так вот, вот так, и вот так вот [в обход.] Вот так вот можно было пройти. Потому что всё вот это было оцеплено. Было оцеплено действительно жёстко, всё было там. А потом даже там забор поставили, что-то такое, и там очень долго там работали. Очень долго. Там очень долго всё это разбирали, это…
Я помню, как мама так сидит и говорит: «Жоржик, война?» Папа говорит: «Нет, это взрыв». Потом говорит… а папа-то по части взрывов. [Усмехается.]
А он же до, рассказывал, как до войны он тоже, у него был, собственно говоря, первый осциллограф был сделан им в стране. Вообще, он изобрёл осциллограф, который фиксировал все вот эти вот. И вот с Садовским, [прим. – Михаил Александрович Садовский (1904 – 1994) – геофизик-сейсмолог, специалист по физике взрыва, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии СССР.], который потом стал академиком… (Папа академиком, кстати, не стал. Он никогда ни с кем не пил и никогда не, так сказать… Потому что это совершенно отдельное умение, потому что академики… Даже в царское время тоже была какая-то, но всё-таки тогда там были… А при Советском [времени] это было что-то чудовищное. Там полно было вот этого советского генералитета от… как сказать… в литературе был генералитет, в искусстве, в театре, в кино – где угодно. Вот были те, которые пролезли. Лизоблюды, которые становились [генералитетом в какой-то сфере.] А талантливые люди – они [усмехается] занимались делом. А эти командовали.)
Вот как-то раз, папа рассказывал, что – это было до войны – значит, дядя Миша попросил его поехать с ним в командировку. Там… А Садовский занимался взрывами. Он был такой… не учёный. Он был блистательный, как бы сейчас сказали, менеджер. Со всеми всегда выпивал. Очень, очень хитрый! Жутко жаждущий власти, но никогда этого не показывающий. Мы его все обожали. [Смеётся.] Очень такой, очень харизматичный человек. Вот дядя Серёжа – это был действительно гениальный математик, его весь мир знает. А этот был просто очень умный, очень хитрый и страшно рвущийся к власти человек.
Когда папа пришёл в институт, они с Ленинграда ещё знакомы, (они все приехали сюда из Ленинграда: вот Садовский, Соболевы, Михлины – все ленинградцы сюда приехали), он был у папы аспирантом, вот этот дядя Миша. Он был старше его на четыре [года], он был аспирантом у папы. И папа вёл его какую-то работу, не будучи никем, будучи ещё просто мальчиком. Ещё, ну, не мальчиком… В семнадцать лет он уже получил какую-то всесоюзную премию на каком-то конкурсе: он какой-то приёмник собрал и рассказал про него и вёл потом… А в институте… в университете в Ленинграде он вёл радиокружок, к нему приходили пятикурсники, потому что никто это ничего не умел и не знал. Потому что они же были, они же были учёными. А он был учёным и прибористом. Он и то, и то мог. Он и то понимал, и то знал. [Вспоминает.]
[Вы рассказывали, как он поехал…]
Папа до войны? Я сейчас вспоминаю… Но это неважно. Это было до войны. Я не помню, в каком году это было. Потому что папа и там летал на самолётах, и прыгал с вышки, чтобы… Потому что он летал на самолётах… он тогда работал с Алкнисом (институт такой был Филина). [прим. – Речь идёт о НИИ ВВС, который сегодня называется Государственным лётно-испытательным центром Министерства обороны им. В.П. Чкалова. Генерал-майор авиации Александр Иванович Филин (1903 – 1942) являлся начальником института.] А потом их всех расстреляли: Филина, Алксниса и Тухачевского. А директор института, который папу пас с третьего курса… он его оттуда очень забрал быстро. Он должен был там защищать сразу докторскую. Вот прямо сразу докторскую, и там – его там обожали совершенно!
У него есть… золотые были часы, именные, подписанные Филиным. А Тухачевский его пригласил пить чай с ним, с папой, с молодым этим… А я, папа мне рассказывал это где-то уже было, это были [19]80-е годы, я говорю: «Папа, ну как Тухачевский?» Он говорит: «Ты знаешь, удивительно был… Очень интеллигентный, очень милый, красивый человек, мы с ним, – говорит, – и ты знаешь, – говорит, – мы с ним так долго, так хорошо разговаривали!» Я говорю: «А что вы пили?» Он говорит: «Чай». Папа был непьющий человек. Нет, если бы там ему предложили бы, предположим, выпить рюмку вина или что-то, он бы не стал бы из этого делать никакого дела и не стал бы делать никакой истории. Он бы, конечно, [выпил.] Но тут они пили чай. Вот так вот. «И, – говорит, – удивительно, – говорит, – мы так с ним хорошо…» Кстати, в институте, когда папа ленинградский же кончал университет…
Да! Так вот, сейчас расскажу. Они поехали, папа поехал (со своим осциллографом поехал) с дядей Мишей Садовским поехали на взрыв. Какой-то где-то просто обычный тротил или что-то такое закладывают и всё. Но там была тоже секретность! Эти были такие-то, я не знаю, «зайчики». Эти были «белочки». Чёрте что! Вот так вот они переговаривались по какому-то этому самому устройству. Папа говорит: «Но всё-таки Советское… – Папа рассказывал это уже в [19]70-е годы. – Но, – говорит, – Советская власть есть советская власть, – говорит, – потому что, – говорит, – когда…»
Они сидели в одном месте, а взрывники сидели уже в другом. И они, значит, сообщались. И должен быть взрыв. Потом те, по этому самому, по связи, когда говорят, предположим, «белочка» или «зайчик»: «Вещество не сдетонировало». [Смеётся.] Вот это так смешно! Вот в этом вся Советская власть. Эти «белочки», эти самые, эти «зайчики», но, но, но вещество не сдетонировало – и всё! Значит, произошла вот такая история.
[У] нас таких страшных историй было две. По сути говоря, КГЧП – это так, дребедень. Ничего тут не происходило и всё. А вот, во-первых, когда был этот взрыв, и потом, когда здесь Берия был расстрелян. Это была, конечно, история серьёзная, очень серьёзная, потому что… Я только потом читала. И папа ничего не рассказывал. Ему рассказывали – он ничего нам не рассказывал, потому что он, вероятно, не считал возможным то, что он получил из… ну, от старших товарищей из Конторы что-то, так сказать, передавать нам. Он не хотел, вероятно, нас обременять ненужными тогда знаниями. Т.е. мы знали то, что надо. Мы понимали, что это за власть: это нам объяснили очень скоро, очень быстро у нас это объяснилось и всё, всё было понято. Вот. Так что мы были в этом отношении совершенно нормальными людьми, и поэтому для меня смерть Сталина была – слава тебе господи, что сейчас будет нормальная, начнётся нормальная жизнь! Вот. А этого он не рассказывал. Но два таких было очень события, довольно таких [страшных.]
Да, и вот вечером, когда мы собрались все, когда мне сказали: «Девушка, сойдите с тротуара», – я пришла и всё это рассказала. Папа сказал: «Мартышка, запомни, пожалуйста, – он никогда не делал выговоров. Он никогда не морализовал. Но когда он очень волновался, он говорил очень чёткие вещи, и тебе… и человеку не было это обидно. Он сказал, – Мартышка, если человек с оружием просит тебя откуда-то отойти, выполняй это сразу». Потому что в те времена могли и пристрелить. Совершенно запросто! Потому что тогда были такие дни и часы, когда вот непонятно – а вдруг я какая-то…
Хорошо, в конце концов, давайте вспомним такую простую историю. Конечно, не будем сравнивать даже приблизительно царскую власть с властью советской. Потому что царская власть была властью царя. И тут были и божеские законы, и такие, и были нехорошие вещи. Но были и очень хорошие. В общем, наша страна двигалась в очень хорошем направлении. А тут было всё-таки нечто чудовищное, сатанинское и немыслимое. Только в двух странах было вот это вот, только там это было двадцать лет, а у нас это было [семьдесят лет.] Всё-таки Советская власть у нас была, будем говорить прямо, что Советская власть у нас прекратилась, только когда Советский Союз, когда погибла эта самая замечательная эта коммунистическая партия, которая всем руководила вот так сверху.
Вот у нас был аппаратчик ЦК жил в третьей ком[нате], рядом с нами дверь в дверь. Который с папой не здоровался. Потому что считал его евреем. Да-да-да! Папа очень смеялся, говорит: «А, – говорит, – Михал-то, – говорит это, – наш сосед…» – ну, по-соседски мы это, всегда к маме [его жена] бегала и, в общем, с ней… [Она] говорит: «Что, Варвара Николаевна, никогда не зайдёте? Не зайдёте? Мы б посидели бы, чаю попили». Мама говорит: «Вы, – говорит, – знаете, Ольга Ивановна, вы меня извините, но мне просто некогда. Потому что у меня большая семья. Я продукты покупаю, я это, я должна, значит… Короче говоря, детьми занимаюсь. – Миша тогда был маленький. – У меня просто нет времени». И она к нам прибегала и… В общем, была очень… такая очень неприятный была человек.
[Фрагмент интервью 03:19:51 – 03:36:25 не публикуется.]
О папином дедушке: кантор Исай из Екатеринослава. Лев Алесаныч, Сын Исая, в консерватории. Подарок от главного режиссёра Мариинского театра. Встреча с внуком Исая. Четверо детей Исая в Петербурге и Париже (03:36:25 – 03:41:41)
Папин дед был известнейший в мире (в нашем, российском) на всём юге был известнейший кантор. У него был потрясающей красоты голос. Он был верующий еврей и проклял своего сына, Льва Алесаныча (моего дедушку), который… тот сбежал в четырнадцать лет в консерваторию. Он его проклял. Ну как же! Он же крестился! И он узнал, что… А квоты же. Нет, мало того, что Лев Алесаныч не мог здесь учиться в консерватории, потому что были квоты определённые. И, значит, если ты не попадал в какую-то квоту, то всё. Ты должен был сидеть у себя там в своём местечке. Местечковые евреи.
[А они были как раз из местечка?]
Они были как раз… Они были из Екатеринослава, не из какого особого местечка, но из Екатеринослава. Неважно. Но не из Петербурга.
А он был очень талантливым музыкально, потому что кантор. У него был потрясающий голос.
А Лев Алесаныч, мало того, что у него тоже и голос был неплохой, но он был очень талантливым. Он играл на скрипке. И он поехал [в Санкт-Петербург.] И он уже в девятнадцать лет… Он очень быстро кончил консерваторию. Ничего не обучаясь. Только вот так вот. Ни в школах никаких, ничего не было. Он дома, и какой-то меценат ему помогал. Но дальше ему дали стипендию. Он уже в девятнадцать лет играл в Мариинском театре в оркестре. А потом стал концертмейстером скрипок. И у нас даже есть, это самое… Один из последних дирижёров там очень его уважал, подарил ему свою дирижёрскую палочку. Направник – такой был известный дирижёр. [прим. – Эдуард Францевич Направник (1839 – 1916) являлся главным дирижёром Мариинского театра с 1869 г. До самой смерти.] Вот.
И в этой семье было так. Значит, был… Я даже не знаю. Фотографий его нету. Как его звали, не знаю. Только вероятней всего, что если Лев Алесаныч, то, вероятно, был какой-то Исай. Какой-то вот такой вот.
Когда папа приехал до войны в Запорожье, чтобы там… у них тоже были какие-то дела, хотели опробовать, на земле хотели опробовать сейсмограф, сейсмографы. И там было, собрались какой-то большое, со всего Союза собрались какой-то, такой вот, сейчас называется симпозиум. Тогда вот тоже какой-то междусобойчик [усмехается] был у этих у всех учёных и прибористов. И вдруг какой-то к нему подходит старый пожилой еврей в этой, в кипе. И говорит: «Георгий Львович, скажите, пожалуйста, Ваша фамилия Шнирман. Вы, случайно, не родственник кантора известного, известного кантора Шнирмана?» Папа говорит: «Я его внук». Папа говорит: «И вот дальше, – говорит, – это, – говорит, – что было! – говорит. – Собрались буквально, наверно, все евреи Запорожья. Нас с мамой носили на руках, мы не знали, что нам делать с этой любовью. Мне простили гойку-жену», – потому что мама была православная. Папа тоже был православный. Но это ему тоже простили, что он православный, что он крещёный, что у него есть крёстный.
У него были крёстные родители, они прямо записаны у него при рождении, как тогда в церковной. Тогда же метрики писали в церкви, у него там записаны: вот крёстная такая-то, крёстный такой-то. Так вот, там было так.
[Мой прадед] был кантор. Потом был… у него был [сын,] Лев Алесаныч который. У него было семеро детей, семеро. Сбежал Лев Алесаныч. И он не женился до тридцати лет, он выписал оттуда трёх своих: одного брата и двух сестёр. Сестёр он отправил в Париж, и они там обучались зубному делу и косметологии. Но одна из сестёр… он её потом уже, она успела за это время… Он [прим. – брат] её в консерваторию [направил.] У неё был потрясающий голос, очень хороший. Его сестра. Она потом стала папиной крёстной.
И папа, и мама всегда говорили: «Моя крёстная, моя крёстная», – никогда не называли по именам крёстных. Я говорю: «Мама, а как звали твою крёстную?» Она говорит: «Её Варвара тоже звали!» И так я у папы спросила: «Папа, – я говорю, – а вот кто была твоя крёстная?» Он говорит: «Она была папина сестра, которую он выписал. Она окончила консерваторию, потом он ещё в Париж её посылал, она там, значит, ещё занималась косметологией». Он троих детей, т.е. их четверо (их было семеро детей) четверо стали вот…
А одного [брата] он [прим. – Лев Алесаныч.] устроил в военно-медицинскую академию. Он кончил здесь гимназию (этот его младший брат) и потом очень известным человеком стал. Это можно даже посмотреть потом в этом… Или это его сын, может? Нет, кажется, он тоже стал. И когда этот, как же его звали? [вспоминает] Николай [прим. – брат дедушки], он приехал… (Этот, Лев Алесаныч, мой дедушка, он не виделся со своим отцом. Тот его проклял и не хотел видеть.) Но когда туда приехал этот самый, уже Николай, он приехал – а в военно-медицинской академии полагалась форма военная, и полагался кортик. Кортик! Вот он приехал в такой… И когда он предстал перед очи отца, тот простил. Но проклятье уже было, он его проклял. И, ме[жду про]чим, я считаю, что проклятье сработало. Это ужасно, но это факт.
[Фрагмент интервью 03:41:41 – 03:46:57 не публикуется.]
Солдаты без оружия, немцы в 20 км от Кремля и Советская власть в бегах. Параллельная учёба в медицинском и консерватории. Как на дяде отразилось Дело врачей (03:46:57 – 03:49:26)
Дядя Миша был в блокаде. А дядя Шура ушёл на фронт, и очень быстро его там [ранили.] Он вёз раненых, но его расстреляли из самолёта. И он должен был погибнуть, но каким-то образом не умер. Его врачи вытащили, а потом говорят: «Не знаем, он умрёт, если его не…»
А в это время папа тоже ушёл на фронт, но его вернули через неделю. Просто сказали, что такие учёные должны не воевать, а в тылу работать. Причём, он говорит: «Нас вывели, нас, – говорит, – у нас оружия не было. Мы шли, – говорит, – без оружия». Вот он рассказывал: «По одному направлению, – кстати, по-моему, чуть ли не по Можайскому, говорит, – немцы, – говорит, – подошли. Они были в 20 километрах от Кремля. Они остановились, потому что им в голову не прихо[дило.] Они считали, что дальше там начинается такое. Но тут морозы ударили. Всё это было в конце октября. Но они, – говорит, – не двигались дальше!» Они могли бы. Потому что Москва была пуста.
Вот с 15-го, этого самого, октября в Москве не было никого! Около каких-то зданий валялись бумаги. Их из окон выбрасывали. Не было тогда вот этих вот, которые режут документы – они выбрасывали их на улицу. Все чиновники вот эти вот, вся Советская замечательная власть – вся сбежала, как крысы с тонущего корабля!
Вернёмся к нашему кантору. [прим. – прадеду рассказчика Исае.] Значит, был кантор с замечательным голосом, необыкновенной красоты. Была певица Картавина, его дочка. И был его [сын], который играл в Мариинском театре. И был его внук, [прим. – Дядя Миша, брат отца рассказчика.] который поступил в консерваторию и подавал огромные [надежды.] У него был очень красивый голос. Но он параллельно (тогда можно было) поступил в медицинский. И вдруг началась Советская власть. А Советская власть – это не хухры-мухры. Она сразу сказала: «Так, либо ты здесь учишься, либо ты здесь», – а у него хватало сил и на то, и другое. И он бросил консерваторию и стал врачом. И очень жалко, потому что он был природный артист. Даже вот когда они стоят втроём [на фотографии.] Вот видно.
Дядя Шура тогда уже был. Этот снимок сделан буквально за, наверное, пару лет до смерти дяди Миши. Он рано очень умер, потому что началось Дело врачей. Начались всякие ужасы. Он не был членом партии, на его счастье, он не вступил в партию. И поэтому его не могли сначала исключить из партии, а потом это. Ему сказали, что пиши заявление об уходе. Он сказал: «Я ничего не напишу».
В общем, его так доставали, и он получил инфаркт. А потом получил второй инфаркт. И мама поехала за ним ухаживать в Ленинград. И он умер. Я была на его похоронах.
[Фрагмент интервью 03:49:26 – 03:53:43 не публикуется.]
О богомазах и священниках по другой линии. О лучшем памятнике Ленину в Москве (03:53:43 – 03:57:37)
Теперь возьмём линию Шаховскую. Там была очень интересная линия. Это я говорю к чему? Что мы все четверо: у нас прадед [по одной линии] был кантор. А здесь у нас прапрадед был русский священник. И все дальше эти самые были священники. А в XVII веке это были богомазы. [прим. ред. – Богомаз – иконописец.] Т.е. это были крепостные при церквях. Потому что были крепостные у дворян, и были крепостные государственные. Вот это были государственные. А были при церквях. Вот это были из крепостных. Они великолепно рисовали. А потом они стали священники.
И у нас дома вот тут в шкафу книжном (вон там, я потом, мы сейчас пройдём, потом я покажу, в этой) но там жуткий навал вещей, там не существует уже этой комнаты. Но там несколько предметов осталось таких градообразующих: рояль, книжный шкаф и буфет остался. А всё остальное вывезено. И валяются вещи. И там есть скульптура, которую слепил один скульптор, довольно известный, который… Ну, конечно, все у нас Ленина лепили. Самый удачный Ленин, который у нас в Москве, – это именно его. И Миша потом, мой муж, потом его реставрировал и говорит: «Знаешь, – говорит, – я сегодня, – а он большой такой, высокий. Они лестницы большие там [ставили], забирались на много метров, да ещё постамент, – я, – говорит, – сегодня, – говорит, – Ильича, – говорит, – так по морде, – говорит, – надавал Ильичу по морде!» [Смеётся.]
[Это о каком памятнике Ленина идёт речь?]
О каком памятнике? По-моему, застава Ильича – вот там вот памятник такой вот. Лучший. Потому что все они, они такие… А там он довольно живой как бы. Не рассматриваем мы его по-человечески, а рассматриваем как скульптуру. Это скульптура живого человека. [прим. – Речь идёт о памятнике В.И. Ленину, установленному в 1967 г. Авторы: ск. Г.Йокубонис, арх. В.Чеканаускас, Б.Белозерский, АА.Заварзин. Памятник и сейчас находится на площади Рогожская застава.] А везде скульптуры каменного какого-то истукана.
А вот тут [по линии Шаховых] были священники. И у нас дома я напоролась однажды – (у нас жуткое количество книг), в одном из шкафов на задней… когда, ещё когда мы переезжали на эту квартиру – я напоролась на «Историю государства Российского» Карамзина.
[Фрагмент интервью 03:55:57 – 03:56:41 не публикуется.]
Так вот, «История государства Российского (подписана) Карамзина»: «1886-й год. Священник Шахов Михаил Николаевич».
А потом оказалось, мама сказала, а тут они были все [с одинаковыми именами]: либо Михаил Николаевичи, либо Николай Михалыч. Других имён у них там не было. И потом ещё было после этого… До этого были всё священники. Вот в крепостном праве тоже священников не было, там были богомазы. А вот как только было [отменено] крепостное право, уже они были священниками. А значит уже… это был прадед.
А вот уже дед мой с этой стороны – уже не был [священником.] Уже ушёл из духовной академии. Прадед мой [был.] Это был прапрадед. Этот был тоже прапрадед. И это прапрадед. Этот был кантор. А этот был русский священник.
Национальность, статус учёного и неучастие в проекте военной авиации как гарантия сохранения жизни. Почему Николая Семёнова убрали из руководителей проекта? Почему Георгий Гамов не поздоровался с другом? (03:57:37 – 04:02:13)
[Ваша семья – это нечто противоположное Советскому строю. И тем не менее, и Ваш рассказ, и Ваша книга – это какой-то взрыв позитива. Как же так получилось?]
Нет-нет, дело в том, что… Тут есть два [аспекта.]
Один аспект, он самый главный. (Два даже аспекта.) Это то, что папа был учёным. Очень востребованным. И востребованным и в Ленинграде, и в Москве до того, как он попал на этот проект. Он работал – понятно, что с Тухачевским его не расстреляли, потому что его убрали. Но поскольку он работал на военный комплекс, он… короче говоря, ему повезло: его не взяли, не расстреляли.
Кроме того, он по паспорту был русский. Потому что когда в метрике писали, тогда не существовало [национальности.] Было вероисповеда\ние. И если ты был православный и говорил по-русски, то тебя записывали русским. Вот и всё. Он не был евреем. Он был Шнирман. Как говорил, между прочим, замечательно Николай Николаич Семёнов. Это нобелевский лауреат, химик, директор их института, который поначалу руководил их проектом. [прим. – Николай Николаевич Семёнов (1896 – 1986) – физикохимик, один из основоположников химической физики, Николай Николаевич стал Нобелевским лауреатом в 1956 г.] Но его очень быстро оттуда убрали. Вот всем проектом [руководил!] Потому что он звонил по вертушке в Кремль, что у них есть слесарь один, у него плохо с лёгкими, надо бы корову. Вот. Но когда он третий раз по поводу каких-то то ли гвоздей – так, я приблизительно так говорю, – позвонил в это, вместо него туда поставили [вспоминает] другого человека.
А потом там был… ему помогал Садовский, [который] стал вот этим менеджером.
А там был Курчатов. Главный был Курчатов в этом деле. Вот папа рассказывал [усмехается] – он мало что рассказывал об этом. Вот он рассказывал одну очень смешную вещь. Я говорю: «Папа, а как у тебя были, как ты к Курчатову?..» Он говорит: «Это был, – говорит, – совершенно необыкновенный [человек.]» Причём, папа очень… он никогда никого не ру[гал], очень редко о ком-то говорил плохо, но редко и говорил что-то замечательное о людях. Я слышала, он говорил о Гамове, очень известный физик. [прим. – Георгий Антонович Гамов или Джордж Гамов (1904 – 1968) – физик-теоретик, астрофизик. В 1933 г. покинул СССР, став невозвращенцем.] Так они вместе учились в университете, и они сразу подружились. И потом, говорит, папа говорит: «Вдруг он пропал из института. И мы шли, – говорит, – по улице, он меня увидел и отвернулся. Мне, – говорит, – было так тяжело!» Я говорю: «Папа, но ведь он потом уехал». Он говорит: «Но я тогда этого не понимал». Потому что он не хотел папу подставлять. Он был порядочный человек. И папа сказал мне тогда, это было где-то в [19]70-е годы, он говорит: «Мне, – говорит, – очень не хватало этого человека. У меня, – говорит, – потом, – говорит, – там не было… Он был очень талантлив, очень… я мог с ним говорить обо всём. Мы, – говорит, – с ним часами гуляли». Они нашли друг друга. [Усмехается.] Нашли друг друга. Вот.
Первый момент, что человек был, во-первых, не еврей по национальности. Шнирман, конечно, плохая фамилия. И Николай Николаевич говорил: «Господи, у меня все, – говорит, – ведущие… – (там много было.) – У меня все, – говорит, – ведущие, – говорит, – работники в институте, – (не на проекте, а в институте), – у меня, – говорит, – всё евреи. – (Он был русский сам, Николай Николаевич.) – У меня, – говорит, – единственный, – говорит, – русский есть: и то он Шнирман!» [Смеётся.] «И то он Шнирман! – говорит. – Вот единственный русский!» Очень тоже был хороший.
Так вот первое то, что он был, с одной стороны, то, что он всегда работал на военный комплекс. Значит, от Тухачевского его (вот от этой компании) бог спас. Его директор Никифоров убрал заранее. И о нём не вспомнили. А этих троих расстреляли: и Филина, и там ещё кого-то расстреляли пониже, Алкснис… Вот в первой государственной Думе, помнишь, такой упёртый идиот латышский, который Алкснис его фамилия. Он тоже был очень известный был человек. И Тухачевский. Они курировали вот эту… военно-воздушный флот. Самолётное дело. Вот, первое. Значит, что папу не посадили, не расстреляли, не посадили, не расстреляли, ничего. Значит, это первое.
Довоенный письменный стол из Ленинграда. Фарфоровая кукла в подарок на четыре года. Чем одна маленькая запрещённая книга грозила семье в 1948 г.? Почему отец семейства мог стать врагом народа? Как атомный проект спас жизнь учёному (04:02:13 – 04:11:40)
Но после того, как попал он, а попал он на… Но мог бы попасть вот в [19]49-м году. Но в [19]46-м году он уже был на проекте. А там этим занимался Берия. И вот этих он уже охранял. Он их подслушивал, он подсылал к ним этих [людей из ГБ.] Но он не дал бы ничего сделать с человеком.
И когда я обнаружила при переезде, я обнаружила, когда мы переезжали с той квартиры на эту… Представь себе, сколько у нас там было вещей! Потому что сколько было в одной вот этой, так называемой, мы называли её столовая, потому что мы там ели все. Там была столовая, буфет, там был папин большой письменный стол. Вот этот вот! Вот он сидел за этим столом. Этот стол привезён из Ленинграда. Его дядя Миша сделал папе на заказ. Потому что тут всё ящики, а не такие вот. Не тумбы, а ящики. И здесь ещё выдвижные такие, совершенно такой очень функциональный стол. И большой.
[Да, большой, высокий.]
И широкий. Вот. И вот он тут у меня стоял. А сейчас вот, когда стали ребята, то мы сюда поставили. Его здесь не было. Этого, вот этого стола. Но я хочу зелёный свет ребятам, чтоб они там что-то могли делать. Вот.
Да! Когда мы переезжали, мама сказала: «Девочки, мы переезжаем на новую квартиру», – мы, конечно, под потолком висели от радости. Особенно я! Потому что я спала на этой самой, на раскладушке, и как-то мне… Сначала я как-то, а потом мне как-то поднадоело её. Её же надо было вечером складывать, а утром… т.е. вечером раскладывать, а утром складывать. И я всегда это делала, потому что иначе в той комнате, где было пять человек, было невозможно ходить просто. Потому что она стояла в свободном пространстве.
И вот мама говорит: «Так, – говорит, – Эллочка будет помогать мне с посудой. И с такими всякими вещами, вот такими всякими: картины там, всё. Нинуша, – говорит, – ты займёшься книжками. – Рассказала мне, как собирать по восемь книжек. Там всё, значит. Дала мне верёвку. – Ты, – говорит, – будешь просто верёвкой, – даже бумаги не было, – будешь верёвкой, и потом, – говорит, – сначала будешь ставить туда, когда будут освобождаться полки, там или в другом месте ещё (у нас ещё были книги), будешь ставить это туда». Вот. А Анночка занималась игрушками. Игрушки собирала, потому что у нас игрушек тоже было довольно много там.
Кстати, ме[жду про]чим, никто у нас в куклы, никто не играл. Мы играли с такими игрушками: у Анночки был утёнок Тим, у меня был Барбос, а у Эллы был тигрёнок. Понимаешь, у нас кукол не было. Нет, у нас были куклы. У нас у всех были куклы: Анночка играла в куклы, Эллочка не играла, и я не играла. А у нас были куклы с закрывающимися глазами: такие красивые, такие фарфоровые. Но со мной этот был номер очень такой. Я не понимала, что такое вот. Мне казалось, что она и кукла и немножечко не кукла. Потому что она как только её ставили, она сразу [открывала глаза.] Она лежала, и у неё были глаза закрыты, и как только её ставили, [она открывала глаза.] И я помню, до войны как мама мне сказала: «Ну, как…» – а мне подарили на день рождения, на четыре года, мне подарили. Мама говорит: «Как тебе нравится, нравится тебе кукла?» Я так задумалась и не знаю, как ей сказать. Мама засмеялась и говорит: «Ты её иногда вынимай и посмотри на неё. Только аккуратно. Она очень бьющаяся. Ты посмотри, возьми её за руки, поставь. Может быть, она тебе понравится». Но так ничего и не получилось с этим. [Усмехается.]
И вот, я стала заниматься книгами – я сейчас к тому главному вопросу, очень интересному. И когда я примерно… а примерно я пошла сверху. Потому что я всегда любила начать с трудного – я пошла сверху, стала собирать все. Мне было одиннадцать лет, я была всё-таки… я ещё не выросла в свой рост. Я стала оттуда, я всё доставала, конечно, всюду [стала] собирать, всё делать.
И вот на второй полке сверху… А там было два ряда: толстый шкаф такой, где два [ряда.] Я первый сделала. Второй… И вдруг я вижу, что около так вот спины шкафа, там тоже дерево, стоит какая-то книжечка. Я её так выцарапываю (она такая бледно-зелёная), и написано: «1937. Фейхтвангер». [прим. – В книге-очерке «Москва 1937» немецкий писатель Лион Фейхтвангер описал свои впечатления от поездки в СССР.] Я думаю: «Что такое?» Я этой книжки никогда не видела. И стояла она не сюда, а стояла она просто. Я беру эту книжку и бегу к маме. И говорю: «Мамочка, а что это такое? Я этой книжки не видела». И вдруг я вижу, как у мамы меняется лицо. Она была очень человеком удивительно владеющим, совершенно, она великолепно владела всегда. Но так она, она говорит: «Нинуша, это, – говорит, книжка запрещённая. И если кто-нибудь узнает о том, что у нас эта книжка есть, то папу посадят. Могут посадить. Могут расстрелять. Меня тоже посадят. Я буду сидеть. Бабушку выгонят из квартиры. А вас возьмут в детский дом для врагов народа».
А я знала про врагов народа, потому что у нас на четвёртом этаже у Эллочкиной подруги до войны забрали отца, потому что какой-то милиционерше надо было комнату. И так как у них было две комнаты, то забрали отца. Там осталась мать с дочерью, и туда сразу подселили эту милиционершу. Они же и написали вместе с её любовником, написали (как потом всё это выяснилось) на него какой-то донос. Там доносы были не нужны. Брали и всё. Кого попало. Кого ни попадя. Я знала, и я всегда думала: «Такой хороший он. Ничего он не хулиган и ни то-то. Почему же он враг народа?» Но тут я уже была взрослая. (Тогда я была маленькая, и наша семья была единственная, которая с ними общалась. И Оля, она потом была Элиной подругой, они тогда уже была Элиной подругой. Она была единственная, кто была приглашена на Элин день рождения. Её мать потом приходила и плакала к мамочке моей.)
И вот. И мама говорит. И когда мама сказала, что вот, перечислила, ты знаешь, у меня буквально… Я не помню, когда вообще мне было страшно. Я вообще очень быстро с этим чувством боролась, потому что я всегда страх ликвидировала. Потому что считала, что это очень плохо. Потому что я знала, что если долго бояться, потом никогда вот…
И я говорю: «Мамочка, давай я эту книжку пойду, выкину на помойку!» Мама вдруг она стала… такое обычное лицо [у неё стало.] Она говорит: «Нет, Нинуша, – говорит, – ты ничего не бойся. Папа твой очень нужен сейчас нашему государству. И на помойке её скорее могут найти, чем у нас. У нас никто дома не придёт делать обыск. Поэтому главное, чтобы никто не знал, что у нас эта книжка есть, потому что эта книжка запрещённая», – а тогда её запретили, её изъяли из всех библиотек. Это известная книжка. Там потому что было про культ личности, там была отдельная…
Вот, пожалуйста. Значит, дело в том, что у нас был очень короткий промежуток, вот до войны это было. Потом была война. Потом был короткий промежуток с [19]45-го. Уже с [19]46-го года он работал на атомном проекте. И его потом, поскольку он был главный приборист, то его никто не брал, так сказать, не трогал никто.
Наоборот, ему дали вот эту квартиру. И я поэтому не стала, я это знала. Потом я понимала, что такое наша медицина, что такое наше образование, что такое наша милиция. Я всё это понимала, потому что я видела, что должно быть, и дома всё это обсуждалось. Но нас это не коснулось вот именно из-за этого. Именно из-за этого только! Больше не из-за чего. Потому что и тогда, и тогда… Т.е. это благодаря тому, что папа был очень крупный учёный.
Но никому не помешало же Вавилова, человека с мировым именем… Но дело в том, что на мировое имя Сталину было наплевать. И Берии было нап[левать.] Им всем было наплевать на мировое имя. На то, что он делает такое дело, потому что был Лысенко, который запудрил мозги: что он столько пшеницы выйдет, что там, если слон будет ходить, он превратится в жирафа, а жираф превратится в этого. В общем, что он вытворял!
У папы был, ме[жду про]чим, расстрельный список, он говорил, папа говорил, очень любил. Он говорил: «Знаешь, Мартышка, у меня есть расстрельный список». Я говорю: «А кто там номер один?» Он говорит: «Лысенко». [Смеётся.] Вот. Расстрельный список. Так что я считаю, что…
А тут была очень конкретная вещь, потому что можно было и по нам шарахнуть, если Америке бы захотелось. Почему если они сбросили на Японию, им не нужно было… Ведь они же первую бомбу сбросили… Зачем было вторую сбрасывать? А вот для устрашения надо было сбросить. Правда, они хотели там чтобы… Потому что там же японский двор же ни в какую не хотел никаких, этих самых, замиряться, не хотел подписывать ничего не хотел. В общем, они кинули.
А что с нами не сделать то же самое? И с кем угодно сделать в общем. Так что мы, а мы очень в этом отношении. У нас же единственное, что у нас было, и то было плохое. Единственное, что у нас было – это военный комплекс. Единственное, что у нас было. Потому что у нас в стране не было ни промышленности, ничего. У нас было… очень скудная была хлеб, там, какая-то примитивная очень колбаса…
Чёрная икра, белая рыба и крабы из рыбного магазина у Павелецкой. Почему бабушкины щи были самыми вкусными. Сколько магазинов было на Космодамианской набережной в Советские времена. Как ещё менялась набережная (04:11:40 – 04:21:07)
Ой, кстати, ме[жду про]чим, первые годы, когда мы сюда приехали, я была совершенно потрясена. Вот здесь около «Павелецкого» метро вот это вот, вот где перпендикулярно идёт трамвай, вот если пойти, встать спиной и пойти в другую сторону, не к нам, а от нас, и взойти вот сюда, налево, буквально второй дом был огромный рыбный магазин. И я всё… А я обожала…
Я ужасно не люблю очень вот эти тряпки, шмотки, что-то ходить там, примерять, ужасно не люблю, меня это раздражает.
А продуктовые магазины, поскольку это связано с едой, вероятно, было, я очень любила. И с удовольствием ходила туда, всё покупала. Очень любила всё это. Всё это очень к этому хорошо относилась. Я туда ходила и обязательно ходила туда в субботу и покупала там красную рыбу, белую рыбу, красную икру, чёрную икру.
Это всё было очень дёшево! А деньги у папы были тогда. Потому что у простых людей даже на это денег не было. Потому что люди такие зарплаты получали, что… В общем, это страшно, сколько получали учителя, врачи, рабочие! Вот научные работники ещё больше. А папа получал больше, потому что было так: у него была зарплата большая, но нам её только-только хватало. Но когда он стал работать на полигоне, как только он ехал на полигон, ему платили: вот он пробыл там два месяца, у него была зарплата 6000, он получал такую же зарплату там вторую.
И вот тогда появились книги, появились это. Нам могли что-то [новое] сшить – мама запретила бабушке шить. А то до этого нам бабушка всё перешивала: пальто нам шила, всё нам делала. А тут нам шили в ателье, нам шили одно платьице там, пальтишко там, зимнее. Потому что всё тяжелое [самостоятельно шить сложно.] Зимнее пальто, например, сшить – это тяжелая работа. Вот и мама запретила бабушке шить, нам уже шили… У нас это… Потом мы носили это по десять лет, пока вырастали. И дальше, когда уже вырастали, носили это очень долго. Но тем не менее вот…
Крабы! Они стоили что-то такое... Банка консэрвная стоила, когда уже была это – 80 копеек стоила. Банка крабов! И мама делала салат оливье, она… ой, ужасно вкусный. И я потом всегда делала. Но вместо краба мне приходилось класть, я хорошую покупала либо телятину, либо это самое. Когда делали уже тут, когда не было уже крабов в [19]70-е – [19]80-е годы. А ещё в [19]60-е они были. Но вот в начале только. Но начиная как мы сюда приехали, с [19]46-го года, года примерно до [19]56-го – [19]58-го были крабы, была икра, была рыба красная, рыба белая. И вот это всё покупали. И мы субботу, воскресенье ели.
У нас за обедом или за ужином были бутерброды, а так мы с сыром ели иногда и с колбасой докторской. А тут, значит… И [на] обед всегда бабушка делала котлеты.
Бабушка у нас готовила замечательно. Как я любила бабушкины суточные щи! Это фантастика! Это отваривается хороший кусок мяса, с косточкой с мозговой обязательно отваривается. Берётся капуста, которая выбирается на рынке, потому что больше её нигде нету. А рынок у нас рядом был. Он был напротив Ржевского, Рижского вокзала. Там был так называемый Крестовский рынок. (А вокзал назывался Ржевским. Мы были в 5-ти минутах от этого всего.) Там была всегда… Бабушка покупала. А до этого мы покупали: всё же ей помогали. Значит, капуста кислая. Но специальная. Так она должна была… Её пробовалась, она должна была быть такая хрустящая, не расквашенная. И вот эта капуста [клалась] в сотейник такой большой такой, чугунный (тяжеленный, как я не знаю что). Это наливался бульон. И туда клали капусту. И это варилось 2 часа в этой капусте, но на очень маленьком огне, т.е. тушилось практически. Потом ещё немножечко там – чуть-чуть немножечко картошки, немножко это. И потом всё обжаривалось на, немножко на масле, немножко морковки, немножко лука, чеснока бабушка, по-моему, даже туда не клала. И потом это всё переливалось обратно в бульон. И вот такая кастрюля у нас была. И был[и] щи. Потому что многие хозяйки делали так: они покупали капусту и бросали её прямо в бульон, потом варили – и всё. Но это было совсем не так вкусно. Потому что капуста пропитывалась вот этим вот дивным бульоном с настоящей мозговой косточкой. Вот.
[Фрагмент интервью 04:16:03 – 04:17:30 не публикуется.]
Теперь вернёмся к набережной. Значит, на набережной произошли перемены вот какого свойства. Про два ужасных события я рассказала, они произошли.
Теперь у нас не было никогда, до какого-то года [вспоминает] – до [19]90-го года здесь не было ни одного магазина на набережной! Всё было на [улице] Осипенко. И не очень такое хорошее. Потом дальше надо было. Значит, там была… короче говоря, в каком-то смысле слова даже кулина\рия была. В общем, купить можно было… А рынок был около Павелецкого вокзала, так что можно было на рынке всё купить. [прим. – Речь идёт о Зацепском рынке.] А остальное, вплоть до мяса, там мама бифштексы часто покупала в кулинарии, в каком-то подвальном помещении – тоже на Осипенко. На набережной не было ни одного магазина, вот ни одного!
Градообразующим был наш дом, потому что он большой. Он виден как бы… [прим. – Ищет фото] Дело в том, что у меня нет, я тебе потом покажу: снято вот отсюда…
[С другой стороны?]
Снята наша набережная, и вот видно: стоит наш дом – так, так и так. И там две [башенки.] Одна сгорела, одна осталась. Потом у нас, когда дом этот… И там построили, ещё внутри построили ещё большой дом.
Потом у нас сделали – вот там, где я тебе рассказывала, что было такое место (где было [место] около Штаба округа) там был какой-то отвратительный сарай. И в конце [19]80-х годов там было написано… Миша говорит: «Слушай, пойдём, – говорит, – я сейчас тебя насмешу», – Миша мне говорит, мой. (Мы часто здесь жили. У родителей ночевали. Иногда месяцами здесь жили, когда кто-то болел, чтобы помогать, когда родители уезжали, чтобы Анке помогать, когда Надюша [родилась:] она в [19]72-м году родилась. Вот.) Он говорит: «Пойдём, я тебя насмешу». Выходим. Он говорит: «Ты знаешь, что это такое?» Я говорю: «Ну, сарай». Он говорит: «Это автосэрвис!» Я говорю: «Какой автосэрвис?» – «А там, – говорит, – какой-то мужик, – говорит, – каким-то молотком что-то колотит, это, – говорит, – автосэрвис». Так вот потом там сделали. Вот сейчас если пойдёшь, там всё уже такое… [Ты сейчас увидишь] маленькие домики, очень аккуратные, красиво сделанные в современном духе.
Потом очень рано построили там вот этот дом в шоколаде. Он был построен чуть позднее наших домов, он был построен там вот, около, прямо рядом с Сухинским мостом. [прим. – Рассказчик имеет в виду Большой Устьинский мост.]
И был построен ещё дом такой… никакой дом, он, по-моему, десятиэтажный такой. Знаешь, обычная вот такая вот кирпичная дрянь, вот такая, вот, и там… [Смеётся.] Самое смешное, Миша говорил, а Миша тоже первый это заметил. Я говорю: «Слушай, какой дом-то некрасивый». Он говорит: «Не скажи! Он некрасивый, но зато очень полезный для населения». Я говорю: «Чем?» – «А там, – говорит, – венерический диспансер! Кожно-венерический диспансер». [Смеётся.] Я говорю: «Это то, чего нам не хватало!» [Смеётся.] Кожно-венерический диспансер. Вот. Потом стали… и вот совсем только недавно сломали, когда вот…
Да! Значит, дело в том, что ведь все производства все из Москвы очень давно убирались. Они убирались…
Какой вид открывался в прошлом и открывается сегодня с балкона дома на Космодамианской набережной. Трамвайчики по Москве-реке. Самые небольшие изменения набережной (04:21:07 – 04:27:35)
Да! Ещё забыла, была одна фишка, у нас была. Когда мы сюда приехали, папа сказал: «Осмотрите, – говорит, – вид с вашего балкона», – у нас там тоже балкон, тут [на сторону набережной] был балкон, и там был балкон. Но там был на Осипенко как-то. Я говорю: «А как осмотреть?» Я почувствовала какую-то немножко такую нотку. Он говорит: «Ты слева, – говорит, – посмотри, так вытянись. Но только, – говорит, – аккуратно, ты не выпади, – говорит, – с балкона», – он мне сказал. Я говорю: «Пап, ну что ты! Я большая – мне одиннадцать лет!»
И вот я, когда он не видел, встала немножко (потому что мне было трудно иначе) встала немножко, там было так, но вот чуть-чуть на эти перила… там была такая, знаете, немножко такая невская такая решётка была, такая вот. Встала на такую длинную, на которой она крепилась снизу. Стала таким образом немножко повыше, вот как раз рост, вот так вот высунула голову. И ты знаешь, что я увидела? Часы на Спасской башне! Потому что она же загибается, река, и она вот такой делает изгиб. И самое, что интересное, что вот тогда, в те времена, когда не было вот этих бесконечных домов – потом-то они закрыли, когда построили высокие дома, и, кстати, деревья выросли, очень высоко. Вот у нас-то вот сейчас вот. Вот у нас, раньше мы смотрели. А сейчас-то у нас выросло. Но это очень хорошо, потому что у нас очень была жаркая была половина. А туда [на противоположную сторону] переходила [жара] только, переходит только в 2 – 3 часа. А здесь было всегда [жарко.] Но папа и мама – они очень хорошо это переносили. И очень красивый был здесь вид, река.
Но я очень сейчас благодарна этому. [прим. – Тому, что деревья выросли.] Потому что здесь, начиная [с лета:] июнь, июль, август и сентябрь – здесь деревья [в листьях.] А дальше: вся весна, вся осень, вся зима – виден этот мост, виден этот, вся видна река – всё это видно.
Трамвайчики вот эти вот, которые ходят. Где-то они тут ходят у меня – вот. [прим. – Показывает фото.] Трамвайчики ходили. Кстати, вот это вот – у нас здесь была пристань, здесь останавливался трамвайчик. Сейчас он не останавливается. И очень давно не оста[навливается.] А тогда он здесь останавливался. И мы всегда бегали и ездили на трамвайчике, когда они пошли. Они пошли не скоро, они пошли где-то [вспоминает.] Вот это я, к сожалению, не помню. Может, где-то в конце [19]50-х – начале [19]60-х пошли трамвайчики, и вот здесь была эта… Нет, наверно, раньше всё-таки. Здесь была пристань. Здесь можно было сесть, войти туда, соответственно всё. Купить билет. И, значит, набережная дальше…
По сути говоря, здесь больше – значит, сделалось около военного округа, потом на углу Комиссариатского [переулка], вот там, где, где я нарисовала, где был проход на Осипенко. А тут был Штаб военного округа, вот так и так. И тут была арка, а там был бункер, где расстреливали [Берию], здесь танк стоял, здесь танк стоял, – вот это был Комиссариатский переулок. Так вот это он был вот так вот [рисует], Комиссариатский, вот.
А дальше шёл так – вот это здание было. Это была пятиэтажная больница водников, т.е. водного хозяйства. И там когда ходили, я с нежностью смотрела на это, потому что туда на балконах выходили в пижамах мужчины. И я почему-то сразу вспоминала Свердловск. Мне казалось, что там такое место – там болеют, это были раненые. А потом, в конце [19]60-х годов – вдруг это всё опустело. [19]70-е, [19]80-е, [19]90-е, 2000-е годы. 2017-й год! Т.е. сорок семь лет это здание пустое стояло! И Миша говорит: «Это лакомый, – говорит, – кусочек. Борются, – говорит, – за него какие-то структуры. Потому что центр города, и не могут никак. Бодаются». [Смеётся.]
Так вот, сейчас два года назад там вырыли чудовищного размера [котлован] – было такое впечатление, что там метро собираются делать, – я не знаю, что они там. А может быть, парковку они собираются делать, как под домами делают (как делают в Европе и где угодно, когда большой дом строится). Но у нас нельзя строить большие дома. У нас можно только семиэтажные. Вот это центр города считается. Здесь нельзя выше семи этажей сейчас строить. Уже давно такой [закон.]
И вот когда строили – был здесь Завод шампанских вин. Всё, что ты пила шампанское, всё делалось вот здесь у нас под окнами! И я так любила, оттуда пахло вот этой вот… немножко этой сивухой. Мне так нравился этот запах такой, он такой! И потом утром так бренчали вот эти бутылки пустые, это было так здорово! И дальше пять лет назад это сломали. Ух ты! Нет, не пять. [Вспоминает.] В [20]12-м году это сломали! И я… [Смеётся.] Мы так рассердились с Надей. И Миша, брат мой, рассердился, и старшая сестра рассердилась. «Зачем нам…» – мы сме[ялись.] Это шутка, конечно. Но мы были очень расстроены, потому что было понятно, что на месте этого будет дом. И он закроет. И он очень близко от нас получается. И получилось там нехорошо, конечно. Дом довольно близко. Когда ты выйдешь – этот дом построен два года назад.
[Фрагмент интервью 04:26:44 – 04:27:13 не публикуется.]
На самой набережной, по сути говоря, изменений, как таковых, [не было.] Вот за исключением того, что её продлили и на ней появилось движение. Кроме того, что построили вот этот вот высокий дом, который стал кожно-венерическим диспансером, и застроили вот эту вот кошмарную штуку.
О новом пальто, ботиночках, шапке и платочке как у барышни. Сколько магазинов на Космодамианской набережной? Из прошлого в настоящее района: палатка, социальный магазин, универсам и супермаркет (04:27:35 – 04:39:07)
Тут ещё обновили несколько… Дом, мимо которого ты идёшь, такой серый, где написано «Спорт…» это самое, он стоял – там был банк. [прим. – Речь идёт о спортивном магазине «Траектория», который сегодня находится по адресу: Космодамианская набережная, д.40/42с.3.] Там был банк. Там был банк. И там была курьерша, которую я всегда жалела. Она была такая странная. Она всегда выходила оттуда, она была такая… Она ходила всегда в чёрной шапочке (очень плохо одета) в чёрном пальто, и несла какую-то папку вот так. Шла мимо тебя, никогда не смотрела. И я понимала, что это какая-то несчастная, не очень здоровая женщина.
И вот, я помню, мне тогда было [вспоминает] это был, наверное, [19]57-й год или [19]58-й. Мама говорит: «Ты знаешь, Нинуша, у тебя очень старая шубка, такая козлиная. Она вся вылезла уже. Давай мы тебе сошьём пальто». Я говорю: «Хорошо, давай сошьём пальто». Сшили мне пальто. И совершенно неожиданно оно мне ужасно понравилось, оно было такое нежно-пастельно, такого бэжевого цвета. С песцовым воротником.
Мама говорит: «Слушай, давай тебе купим какие-то… Ты ходишь в каких-то мужских сапожках», – а у меня маленькая нога была, я ходила в этих, таких, на 34-й размер был. Вот. У мамы была очень маленькая нога. И я ходила в шнурованных… Она говорит: «Давай тебе купим нормальные женские ботиночки». А тогда высоких не было, они такие были до… чуть-чуть выше косточки. Тоже почти такого же цвета, как эта.
А Анночка, она говорит: «Тебе с шапкой что-то надо делать!» Я говорю: «Холодно, – я говорю, – тут у меня мёрзнет». А у меня с горлом было плохо. У меня ангины были очень частые. Анночка говорит: «Слушай, я тебе, – говорит, – сделаю шапку». Осталась от песцового… Она очень хорошо шила. Анка – она была… Вот я шитьё ненавидела. Анка замечательно шила. Бабушка её научила – она шила с шести лет! (Когда ей было десять лет, она перешила платье, которое папа привёз ей. Папа ездил демонтировать заводы и привёз нам по два платья. И она из своего платья переделала. Которое тогда было ей [не по размеру.] Тогда ей было… Когда он ездил в [19]45-м году, ей было шесть лет. А когда ей стало десять, она его перешила и сделала себе кофточку.) [Фрагмент интервью 04:29:48 – 04:31:35 не публикуется.] И вот Анночка из остатков этого… Были остатки. Мама тоже взяла остатки, ей дали остатки этого материала. Она сделала, сшила мне шапку из этого материала пальто. А на него посадила вот так вплотную обрезки – и получилась песцовая шапка. Но она была только вот до сих пор [прим. – показывает примерно по уши.]
Мама мне говорит: «А ты представляешь себе, вот так ходили барышни, – говорит, – все Вот мы, – говорит, – так на каток ходили, всё. Вот под шапку, – (все же были тоже ведь меховые), – а поддевали кружевные тёплые или просто тёплые платки. Белые обязательно». И мне мама купила белую – как-то вот, почему-то, где попалась, я не знаю, – но вот почему-то она купила мне вот белую эту такую вязанную косынку.
И я стала зимой ходить вот так: одевала эту, потом одевала… Это здесь, всё, было очень тепло, застёгивалось, здесь был воротник. И было очень здорово. И получилось, мне очень понравилось даже визуально. Потому что в этом было что-то очень несовременное, но в хорошем смысле слова. Вот.
И вот однажды я иду, не знаю откуда, неважно откуда. Но иду со стороны, вот как ты сейчас пришла, иду со стороны Краснохолмского [моста.] Иду по этому… Иду, иду, иду. И вдруг… Никого нет. И такой лёгкий, лёгкий, ужасно приятный снег. Вообще, надо сказать, я все времена года люблю. Но вот есть такой первый снег, который ужасно какой-то… Думаешь: опять свершилось чудо, вот он идёт, он такой… И он такой белый, когда он ложится, если он ложится. Он белый, он нетронутый, он чистый! И вот я иду, вот такой идёт снег. И я иду вся в своих замечательных мыслях.
Ещё я не подошла к этому банку, т.е. уже почти подошла. И вдруг я вижу, что мне навстречу, вот оттуда, как бы от Комиссариатского [переулка] идёт вот эта вот фигура. Я думаю, я-то про неё забыла. Иду, иду. И вдруг я вижу, что эта фигура… она идёт. Я как бы иду, как нормальный человек ходит, с правой стороны. И она идёт с правой. Т.е. мы идём вот так вот. И далеко. И вдруг я вижу, что она смотрит на меня и начинает вот такую, у неё вот такая траектория. Тогда я чуть-чуть подвигаюсь и думаю: так, что такое? Но я чувствую в её позе – потому что поза, она всегда говорит, – я чувствую какую-то странную агрессию мне совершенно непонятную. И вот дальше она буквально вот так сворачивается и останавливается около меня, загораживая мне путь. Я на неё смотрю: она смотрит на меня жуткими чёрными глазами без зрачков, я не вижу зрачков. Смотрит на меня страшным взглядом, держит эту свою папку и говорит: «О, царские суки! Все деньги разворовали!» – и идёт дальше. [Смеётся.]
Я прихожу домой, говорю: «Ребята, вы не знаете…» Мама говорит: «Вот я тебе говорила, что даже человека наводит [на мысль.] У тебя очень хороший наряд. Ты сразу её навела на мысль о прошлом». Она была не молодая очень женщина. И она знала, кто такие царские суки. [Смеётся.] И дома так все хохотали! А мама говорит: «Это, – говорит, – большой», – тогда не слово было дизайн, она как-то по-другому это сказала. [Вспоминает.] Слово было очень хорошее про моду. Она как-то сказала в том смысле, что «у тебя очень хороший наряд, – она сказала, – ты понимаешь? И он навеял у неё мысли о прошлом. Потому что вот эта, – говорит, – шапка чудесная, (которую тебе Анночка сшила), вот этот песцовый воротник, вот эти ботиночки изящные, нежного цвета, тоже на коричневом шнурочке», – конечно, [ботиночки] не наши. Они были тогда то ли английские, то ли французские. Потому что нашу обувь носить было нельзя, только мальчуковые сапоги можно было носить. Вот я ходила в мальчуковых 34-го размера. И вот «царские суки»…
Так вот, этот дом претерпевал несколько [изменений.] В нём в [19]90-е годы сделали, в конце [19]90-х годов, сделали социальный магазин. Там было всё как бы чуть-чуть дешевле, чем… Не знаю где, потому что у нас больше магазинов не было тогда. Их не было. Короче говоря, понятно, что все знали цены тогда.
А прямо рядом с ним, так вот, параллельно, перпендикулярно как бы дороге, стояла большая-большая [палатка.] Знаешь, передвижные такие палатки, где продавали овощи и фрукты? И у нас было очень удобно. Можно было выйти, и это было в 3-х минутах ходьбы, потому что это было около этого… Была вот эта самая палатка.
Потом как в старом анекдоте. Как приходит еврей в [19]90-е годы, приходит… Нет, даже не [19]90-е, неважно в какие годы. Приходит и говорит: «Скажите, а что у вас было тут? Вот тут. Ничего нету, пустое». Прилавок, потому что пустые прилавки были. А магазины-то были большие. (У нас напротив был огромный магазин. Но там, правда, в общем, как-то там был хлеб, был отдельно хлебный отдел, отдельно крупа, отдельно масло, так что там было всё заполнено. Там не было пустых прилавков.) А были магазины, где были просто пустые прилавки. Он подходит: «Что у вас здесь было?» – «Здесь рыбу продавали». – «А здесь что продавали?» – «А здесь мясо». – «Кому же это всё помешало?!» [Смеётся.] Так вот кому же это всё помешало.
Короче говоря, здесь тоже кому-то всё помешало. У нас убрали этот магазин. Убрали эту штуку. И здесь вообще ничего не было.
Но на углу в этом доме, который достроили, там, на углу сделали – потому что это уже новый как бы дом. Потому что там, где ты ходишь, это, так сказать, как бы остатки старого. А тут построен уже новый – там сделали универсам. Это он у нас открылся где-то примерно в [200]5-м году. Мы туда пришли, там никого нет. Миша так посмотрел, мы выходим: «По-моему, здесь отмывают деньги [смеётся], – Миша, мой муж говорит. – По-моему, – говорит, – здесь деньги отмывают». В общем, так там… И только теперь у нас, вот теперь у нас на набережной, на всей набережной, один магазин есть.
И есть один магазин на… А на Садовнической [набережной] два магазина. Один магазин вот такой большой, тоже супермаркет такой очень тесный, но там довольно много позиций, но очень дорогой. А второй магазин у нас открылся на Осипенко, т.е. на Садовнической уже. Этот на левой стороне, этот на правой, если идти к Балчугу. «Пятёрочка». [прим. – «Пятёрочка» находится по адресу: ул. Садовническая, д.47с.1.] Но противный магазин очень, грязный, противный и хамский. Я бы сказала, вот так вот.
[А здесь на набережной где?]
На углу есть один магазин, больше нет ничего. Вот только на углу здесь. Всё. Дальше у нас сейчас, все ходят в «Пятёрочку». Я сама туда ходила. Но я в «Утконосе» заказываю продукты, потому что я носить сейчас ничего не могу. Чтобы Надька ничего мне ничего не таскала, потому что [она говорит]: «Ты напиши мне список, я всё при[несу]!» Я пару раз написала, потом: «Надька, давай я буду в «Утконосе». Зачем тебе? Вы так заняты, вы так работаете, сейчас, тем более, такой кризис!» Сейчас же жуткая действительно ситуация. [Фрагмент интервью 04:39:08 – 05:08:11 не публикуется.]
Планы, которые разрушила война. Первый день войны. Бомбёжки, бомбоубежище и фугаски на крышах. Как война меняет людей (05:08:11 – 05:14:32)
Когда началась война, мне было четыре с половиной года. Мы должны были в воскресенье ехать на ВСХВ. Тогда ВДНХ называлось ВСХВ. И мама сказала, что мы будем там – они нас покатают на лодке, меня и Эллочку. Потому что Анночка была очень маленькая. Бабушка сказала, что: «Вавочка, это всё-таки как-то легкомыслие. Как же так, вы едете, у вас же двое детей! А если лодка опрокинется?» Мама говорит: «А что?» – мама говорит. Она была такая хохотушка. [Усмехается.] Она говорит: «А что, мама, мамочка. Мы с Жоржиком прекрасно плаваем: каждый по ребёнку и поплыли к берегу». Бабушка говорит: «Это легкомыслие!» А мы страшно стали хохотать: каждый по ребёнку – и поплыли к берегу! Действительно.
И вот утром я поздно проснулась – а я всегда позднее всех просыпалась, я очень долго спала. Отсыпала что-то. Большую энергию, вероятно, энергическую жизнь. Проснулась, выскакиваю, говорю: «Доброе утро!» – и смотрю, бабушка, мама стоят. Я говорю: «Мамочка, когда мы поедем на ВСХВ?» Воскресенье. Мамочка говорит: «Нинуша, мы не поедем на ВСХВ». Я говорю: «А почему?» Она говорит: «А потому что началась война». И я такая: «Ну ладно!» – я говорю. А потому я – ну, такое война? Думаю, ну ладно. Сейчас не поедем – поедем в следующее воскресенье. И я вижу, я говорю: «Ёлка, пойдём, – я говорю, – пойдём с тобой поговорим по телефону». А у нас, папа нам сделал телефон. В одной комнате и в другой, можно было набрать звонок, позвонить, всё, взять трубку и разговаривать. [Фрагмент интервью 05:09:46 – 05:10:09 не публикуется.] Я говорю: «Элка, пойдём поговорим по телефону». Она говорит: «Я не пойду». А ей было семь с половиной лет. И она потом рассказывала мне, говорит: «Тут кончилось моё детство, потому что я поняла, что детства больше не будет: началась война». Он пошла, они пошли в столовую, а я осталась. Думаю: «Ну что, в конце концов, война – война».
А потом дальше я не помню когда, через несколько дней, я просыпаюсь. А я ночью никогда не просыпалась, я спала до самого утра, когда я уже просыпалась хорошо. Потому что в детский сад меня не водили, меня не будили, мне нервы не мотали такой глупостью.
[Фрагмент интервью 05:10:41 – 05:10:53 не публикуется.]
И, значит, я просыпаюсь. Думаю: «Что такое, где я?» И что-то воет, воет, воет. И вдруг я понимаю, что я сижу около ножки рояля. Мама меня посадила около ножки рояля. Потому что и с этого окна не может попасть меня. А там я очень близко, потому что осколки от стекла, если где-то… Стёкла-то выбивали при бомбёжках. Воздушная тревога, бомбёжка в доме, и я сижу. Я говорю: «Мамочка, а что такое?» Мама говорит: «Ниночка, Нинуша, спи, Нинуша, это воздушная тревога». И я засыпаю.
Потом я открываю глаза, я открываю глаза: я у бабушки на руках, и мне душно.
А у нас было огромное-огромное туда вниз сделано бомбоубежище в доме. В этом. [прим. – Имеется в виду дом на 1-й Мещанской.] Нечего рассказывать, что Сталин к войне не го[товился!] Он готовился к войне. Очень хорошо готовился. Понимал, что воевать будут, и сам году только… Его Гитлер перехитрил, и, конечно, его это потрясло совершенно. Значит, мы сидим в этом [бомбоубежище.] А у нас это назывался «красный уголок», только потом во время войны мы стали называть это бомбоубежище. Но мы очень мало жили, чуть больше месяца, потом мы уехали в эвакуацию.
И вот я сижу у бабушки на руках, она говорит: «Что, деточка?» Я говорю: «Душно». Она меня так поднимает и кладёт мне голову вот сюда [на плечо], потому что у меня было не очень хорошо и с лёгкими, и с сердцем. И я засыпаю опять. Просыпаюсь – а потом дальше уже, значит, мы… Потом были бомбёжки. Папа…
И дальше была, мама сказала потом (и я это очень хорошо помню) она сказала это прямо в Свердловске, она сказала: «За три дня войны можно о людях узнать больше, чем ты узнаешь за тридцать лет мирной жизни». Потому что наши соседи Михлины, вот дядя Зяма, он был страшный трус. Маленький такой местечковый еврей, ужасно милый, добрый. Мы его обожали. Но трус.
Вот когда начиналась воздушные тревоги, а они были очень регулярно, воздушные тревоги. Жутко! Потом же организовали. Но успели побомбить. И у нас очень близко попала от нас бомба, но к нам не попала. Вот такое тоже, такое было счастье. Но в Москве маленькие были разрушения. Это не Ленинград. И когда только начинался вот этот вой сирены… А мы жили на третьем этаже, и у нас, у мамы было трое детей тогда. Папа мгновенно бежал на лестницу – а у папы была боязнь высоты – он бежал на крышу, потому что фугаски бросали. И он сбрасывал там фугаски! И к нам на дом попадали фугаски. Там несколько мужчин сбрасывало. Двое или трое регулярно туда выскакивали. Там немного были, но там были, потому что многие ещё и на фронт ушли. Но там были мужчины, которые не ушли, потому что там тоже были научные работники. Это же был дом-то научных работников. Троих детей. А Анночке было тогда, значит… Налёты были всегда ночью, и дети уже спали. Ну, хорошо, Элка – её разбудишь, ей там, предположим, 7,5 лет, она не спит, она сразу вскакивает. Но я и Анночка – мы спим. Значит, нас надо на руках держать.
Так что дядя Зяма выскакивал вместе с тётей Витей. Тётя Витя бежала в бомбоубежище вниз, а он бежал на третий этаж. Мама говорит: «Он хватал первого попавшегося ребёнка», – потому что нам ещё надо было с собой еду взять, воду взять, одеяльце, чтобы нас прикрыть, вот. И дальше с ним бежал в это. Вот.
Потом, значит, мы уехали. Дальше ты всё прочитаешь.
О замечательном инструкторе по вождению (05:14:32 – 05:17:58)
[Спасибо огромное! Вас можно бесконечно слушать. Это такое счастье!]
[Фрагмент интервью 05:14:39 – 05:15:06 не публикуется.]
[прим. – Ранее рассказывала, что стала учиться водить автомобиль в девятнадцать лет, тогда учили только на грузовиках.]
Такой был чудный инструктор. Олег. Он говорит: «Ты прямо как моя дочка, – он говорил. – Тоже она такая весёлая, – говорил, – весёлая!»
И вот я помню. Я так сразу ездила, всё хорошо. Но иногда… Понятное дело, когда первые особенно разы ездишь, где-то особенно перегазовку не перега[нрзб. – 5:15:25] – и застрянешь. Особенно в этом отношении были очень тяжёлыми – потому что там не было никогда вот этих вот, что делается сейчас – это трамвайные пути. И там обязательно, [ты] очень часто застревал на трамвайных путях. А Олег – он очень был в этом отношении справедливый человек. Вот я что-нибудь сделаю не так, он: «Да ладно!»
И очень был смешной случай, когда мы как-то раз – уже это был раз на третий, на четвёртый. Я уже хорошо владела машиной, ездила, ничё уже абсолютно – я ничего не боялась, но просто так… я уже умела ездить на четвёртый раз. Мы приехали, он говорит: «Поехали оттуда, поехали», – мы приехали. А мы ездили, начинали ездить в конце Ленинского проспекта. И мы приехали через Ленинский, приехали сюда.
И мы подъезжаем к Павелецкому вокзалу. А тут рынок и остановка трамвая, который ходит у нас по этому нашему ды-ды-ды-ды-ды, по Осипенко брусчатке. Я подъезжаю – там толпа народа! Я замедляюсь, замедляюсь. Он говорит: «Ты что?» Я говорю: «Я же не могу! Они же… – я говорю, – смотрите, их сколько, Олег там Влади[мирович], жуткое количество людей!» Он говорит: «Езжай, ты на них прямо езжай, они разбегутся. А иначе, – говорит, – они всегда идти будут. Ты и проехать не сможешь. Как только увидела – езжай на них!» [Смеётся.]
Я понимаю, что с одной стороны мне страшно. И я тогда… Он говорит: «Ну, пере…» Я говорю: «Газануть, – говорю, – может, немножко?» Я так сделала перегазовку, и такой звук такой – и сразу образовалась какой-то – и я поехала. Вот, значит, этот Олег...
Но иногда, когда он считал, что я виновата в чём-то, он говорил…
Значит, где-то заглохну, плохо, или на взгорке я плохо остановилась и плохо – заглохла. Стою. «Ну, выходи», – он мне говорит. А я не могла, мне не хватало сил прокрутить эту ручку. Я выходила, крутану раз, потом два, крутану три. С первого раза я поняла, когда мы первый раз ездили, два часа там у нас там у нас было, время было. И я поняла, что он меня так учит. Учит. Вот.
И вот дальше мы застряли на трамвайных путях. Он говорит мне: «Выходи». Я говорю: «Олег Владимирович, а трамваи?» [Смеётся.] Он: «У-у!» Вышел, значит. Но очень был спокойный такой, симпатичный ужасно был и очень…Говорит: «Ты прямо, – говорит, – как моя дочка!» – говорит. Я была, господи, мне было… девятнадцать лет мне было.
[Фрагмент интервью 05:17:58 – 05:18:33 не публикуется.]