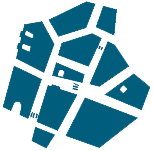Детство в Переделкине и на Арбате, Кривоарбатский переулок, Улан-Батор, Переделкино, кладбище, где похоронен Пастернак
Во-первых, моя ранняя Москва — это Арбат. Я жил… Мы жили в доме, в котором сейчас, размещен… размещен вот это, по-моему… как сказать… это Союз театральных деятелей [Союз театральных деятелей РФ, ул. Арбат, 35.] что ли? Это огромный дом, который выходит одним боком в Кривоарбатский переулок, другим боком — в Калошин переулок, а лицом — на Арбат. Это большой-большой дом, каменный. Видимо, постройки… ну, можно где-то про него прочитать, он довольно такой дом известный. Дом шестиэтажный с очень высокими этажами, очень высокими такими… высокими потолками в комнатах, роскошной лестницей. Подъезды наши выходили в Кривоарбатский переулок, вот… и вход был оттуда. Значит… мы жили на шестом этаже в огромной коммунальной квартире, занимая… Квартира имела форму буквы «Г», и вот в остром углу этой, значит, квартиры размещалась… Было две двери. По одну сторону угла была дверь в сортир, а по другую сторону — дверь в нашу комнату.
[То есть смежные двери?]
Нет. [Показывает, как именно были расположены двери.] Комната была, строго говоря, не наша. Комната была… комната принадлежала нашей знакомой, ну, такой, старшей приятельнице моей матери, такой Вере Николаевне Клюевой. Она была интересная женщина, она была переводчиком, специалистом по преподаванию русского языка иностранцам, и, в общем, последнее десятилетие жизни (она умерла, по-моему, в шестидесятом году, это можно будет уточнить) она работала в ИнЯзе, ну, то, что называется Институт Мориса Тереза [МГЛУ] сейчас. Вот. И… да, у неё было трое детей: двое мальчиков и девочка, старшая была девочка, младшие… они все были сильно старше меня, довольно. Из них, собственно, жив сейчас только один из сыновей. Ну вот. Так вот, Вера Николаевна в сорок, видимо, сорок третьем году она уехала в Монголию. В Монголию она уехала потому, что была в числе других… там довольно большого количества советских специалистов… поскольку ровно в эти, как сейчас можно подумать, неподходящие годы в Улан-Баторе решили открыть университет. Там не было университета. Собственно, и Академии наук не было, был так называемый Комитет наук. Ну вот… ну это я узнал много позже всё. [Вспоминает.] И Вера Николаевна вместе с семьей из достаточно голодной Москвы. По-моему, это был сорок третий год, вот я точно не знаю, не могу быть уверен, по-моему, сорок третий, она уехала вместе со всей семьей, то есть вместе со всеми своими тремя детьми в Улан-Батор и прожила там до тысячи девятьсот пятидесятого года. Для нас это было весьма кстати, потому что она нам оставила свою комнату. А у нас комнаты не было, у нас не было вообще, где жить, потому что мы… в сорок третьем году мы вернулись из эвакуации в Чистополе и вернулись в неизвестно куда, вот, потому что за эти годы там мать с отцом успели развестись, оставалась комната в Переделкине… [Вспоминает.] Сначала это было пол… половина дачи, сейчас находящейся на территории Дома творчества… вот переделкинского Дома творчества, один из коттеджей, а тогда это была дача, принадлежащая писателю… половина — писателю Бахметьеву, а половина — моему отцу и матери. Вот. Ну вот после того, как они разошлись… как-то, значит, там Бахметьев занял большую часть. Вообще, его была идея в том, что он должен был владеть всей этой дачей, возможно, там какие-то были юридические, так сказать, обстоятельства. Вот. В результате чего мы через какое-то время были выселены оттуда в такой длинный деревянный двухэтажный дом (он, видимо, стоит и поныне. Во всяком случае, ещё какие-то годы назад он вполне стоял.), который назывался на тогдашнем языке «стандартный дом». Вот в этом стандартном доме жили… я бы сказал, такие литературные парии, такие вот литературные… так сказать, литераторы… не знаю, не первого ряда. У литераторов первого ряда, которые жили в Переделкине, у них были свои дачи. Вот Перелыгино булгаковское из «Мастера и Маргариты», вот это Переделкино, вот ровным счетом то, что там описано, вот там это оно и есть. Вот.
[То есть это соответствует той действительности?]
Ну, вполне соответствует, вот. А в нашем, значит, стандартном доме… ну, мы занимали комнату, тоже как бы в коммунальной квартире. Там было… значит, а две других комнаты в той же квартирке занимала семья писателя, обрусевшего бурята, собственно, и жена его была бурятка, такого Александра Андреевича Чернева. На самом деле, его фамилия была Леонов, а он был, под псевдонимом жил Чернев. Вот. По детству я помню, что у меня его имя почему-то разлагалось не на две, не на два компонента, а на три, не «Александр Андреевич», а «Алексан Дран Дреич». Он был очень пьющий человек, и в качестве пьющего человека он был собутыльником Фадеева, который тоже жил в Переделкине и поэтому довольно часто бывал в нашей квартире, поскольку он был другом моего отца и хорошо был знаком с моей матерью, он заходил к нам, то есть, он никогда не заходил в комнату, я хорошо помню его стоящим в дверях, когда он так оглядывал, говорил: «Здрасьте, Лёля» матери и, значит, так как-то покивав головой, уходил, видимо, вот либо пить к «Алексан Дран Дреичу», либо к своей возлюбленной, которая жила через площадку в том же подъезде. Вот, была такая красивая молодая женщина, вдова поэта, погибшего в Финскую войну. Вот. Занималась фотографией, у меня есть некоторые фотографии, сделанные ею, тогдашние, сохранились. Вот. Значит, вот это вот наше… был, так сказать, наша жизнь и моё вообще, мои первые детские впечатления о пространстве — это впечатления переделкинские, конечно. Потому что мы жили там круглый год. Значит, вот наше… переезд с бахметьевской дачи в этот стандартный дом он произошёл, видимо, где-нибудь году в сорок седьмом примерно, или в сорок шестом, или в сорок седьмом, я это точно не могу установить [нрзб. — 00:09:49,601] мы несколько лет ещё прожили в этом самом стандартном доме. Ну что сказать? Это было… и в бахметьевской даче, например, и там были… был туалет внутри дома. Это был, конечно, не современный, так сказать, ватерклозет, как вот то, чем мы пользуемся сейчас, это был, так сказать, люфт-клозет, немножко это другого рода, но, в общем, за счет чего запашок в квартире всегда был, конечно, какой-то, но воду, например, нам возил водовоз дядя Вася на… это бочка, стоявшая на телеге, которая ехала километра полтора примерно к источнику, где он набирал эту воду. Дядя Вася…
[На лошади?]
Лошадь, естественно, конечно, да, лошадь.
[Не сам впрягался?]
Не, нет, нет, нет, это была телега. Дядя Вася шёл рядом, вода плескалась в бочке, а высшее удовольствие было попроситься, естественно, на задник и проехаться с ним туда вот, до этого самого… Я помню, набирал он где-то такое, около кладбища, вот где Пастернак похоронен, то есть сейчас вот примерно в тех местах. Сейчас там нет никакого источника, там речушка действительно протекает, она и тогда текла, но было какое-то место, я сейчас не упомню, как он и где набирал, потому что я бессчетное количество раз ездил с ним туда. Это было, конечно, и удовольствие, и некоторое испытание, потому что дороги были мощены булыжником, округлым булыжником, и безрессорная телега, естественно, без каких бы то ни было шин, деревянная, которая вот на этих самых… [усмехается] ехала на этих… Это такая была тряска и такое, вообще говоря, то, что я понимаю дядю Васю, который никогда не присаживался даже спереди. [Смеется.] Ну вот, дядя Вася был хорош тем, что ещё… интересен скорее тем, что у него что-то было, видимо, больное горло, он говорил шёпотом, у него бы… ну, безголосый был. Что случилось, не знаю, вот, но вот это как бы, так сказать, придавало общению с ним какую-то особую интимность такую, что он всегда отвечал шёпотом и говорил шёпотом. Вообще, говорил он очень мало и редко. Вот. Да, так вот, значит, вот это так.
Стандартные дома, электроплитки, керосиновые лампы
[До сорок седьмого года вы жили в стандартном доме?]
Это в стандартном доме мы жили, как мы справлялись там с проблемой воды, я не помню просто, потому что там, там, конечно, был колодец где-то… наверное, на участке и где-то близко. Ну, я по малости ещё за водой в этой время не ходил. Вообще, я натаскался вёдер воды за жизнь очень даже много, но это было несколько позже. Вот. А вот там, у меня даже где-то тоже есть фотография сохранилась, где, значит, дядя Вася с бочкой и жильцы стандартного дома выстроились с вёдрами за водой и, значит, вот оттуда он нам это всё наливал. Другая процедура была покупка керосина. Керосин развозили тоже. Не на телеге, по-моему, это всё-таки был автомобиль какой-то с какой-то цистерной, а кроме того, была керосиновая лавка, которая вообще работала всегда, но за ней надо было пилить довольно далеко, вот, и, значит, с керосиновым бидоном. Без керосина никуда, потому что, во-первых, значит, ну дом, понятно, был печной, с печным отоплением и там, и там, вообще никакого другого, естественно… откуда, откуда бы другое? Вот. Значит, это было сопряжено с покупками дров и, в некоторых обстоятельствах, с колкой их… ну, пилить — не помню. Ну вот я тогда ещё не колол и не пилил, хотя впоследствии тоже это приходилось делать достаточно много. Вот. И, значит, ну я как-то вспоминаю это довольно идиллически, поскольку понятно, что детство — это так… интересно. Было электричество, были электрические плитки, плиток ещё с закрытой спиралью не было. Я не знаю, случалось ли вам видеть эти плитки, в которых, значит, спираль уложена в керамическую форму, открытую керамическую форму вот таким вот, вот образом [показывает]. Она очень интересно светится в темноте, когда горит, значит, красным таким светом, вот, откуда, между прочим, я много раз думал, что вот в стихотворении Андрея Вознесенского «электроплитками пляшут под ней города…», через какое-то время станет совсем непонятным, потому что я сразу вспоминаю тёмную комнату и плитку, которая, вот значит это, горит, которая во… вот действительно, когда ночью летишь, подлетаешь к городу, светится, так сказать, какое-то вот место и места, так сказать, светятся, вот это города, так сказать, видны. Вот. Так что, впоследствии это, видимо, будет просто… попросту говоря, непонятно.
[То есть только фольклорные экспедиции будут это помнить?]
Да, да, да, до сих пор. Кстати, впоследствии много-много лет спустя, попав в Монголию, я встретился с этими электроплитками, но ещё более экзотической формы. В семидесятые годы эти плитки, они там очень ценились и их делали вручную и вот, как бы так сказать, вот эти вот… керамическая, глиняная вот эта вот форма с желобком, в которую укладывалась часто проволока какая-то, свернутая спиралью, которая взгорала мгновенно, естественно, это же специальный материал. Вообще, лучший подарок был в Монголии — это привезти спиралей несколько. В это время у нас уже со спиралями так, так сказать, это уже выходило из быта, но в магазине купить было можно, естественно, в семидесятые годы вполне, для загорода. И я помню сейчас это, это у меня во… в глаза это как-то стоит эти самые, эти керамические, значит, керамические… огромные керамические такие какие-то, отдающие каким-то… ну, хочется сказать палеолитом, хотя причем тут «палео-», «палеолит», но в общем вот как-то так. Древнее, что-то древнее такое, потому что на этих самых желобках, в которые укладывалась спираль были видны отпечатки пальцев, так сказать, вот как это проминалось, так сказать, там вручную, ну вот действительно, даже без гончарного круга. Так вот, возвращаясь туда, электричество выключалось часто то… часто не работало и… причем, выключалось оно так, во-первых, ну, на несколько часов, а иногда и серьёзно, на несколько дней.
[В целях экономии?]
Это… мы, мы не знали этого. Я думаю, нет, это не в целях экономии, электричество было довольно дёшево. Но я думаю, что в основном выключалось от того, что все эти подстанции плохо работали. Выключалось оно стабильно, после грозы в общем. Где-то такое, ударяла молния в какой-нибудь деревянный столб, столб падал в… эти обрывались там или что-нибудь, перегорали предохранители там, ну и так далее, и так далее. Перегорало часто. Керосин и керосинка, то есть керосиновая плитка, в бидон заливался керосин.
[Помню это, да.]
Ну, вы эт… вы это помните, наверное, да. Вот и значит, там в неё опускалось два или три фитиля. Там было две конструкции керосинки: такая круглая чугунная трехфитильная и высокая со слюдяным окошечком двухфитильная.
[Там колпачок стеклянный скорее был.]
Да, да, да. Вот и значит…
[Керосин правда сладко пах? Помните, у Мандельштама.]
Керосин? Керосин… нет, ну, понимаете, это, это… как сказать, керосин пахнет сильно, ну, чтобы сладко, я не знаю. Это дело вкуса, так сказать. Ну да, да…
[У Мандельштама пах сладко.]
Ну, ему вот это было… Да, так, так посмотрелось. Так, пожалуй, знаете, да, действительно может быть похоже. Керосин — очень пахучая штука и очень ли… с очень липучим запахом таким. Во-вторых, керосин использовали для освещения. Я не помню у нас керосиновую лампу, хотя они, конечно, были очень в ходу. Но главным способом освещения у нас была [нрзб. — 00:18:37,558] коптилка. Коптилка — это флакончик из-под чьего-то лекарства или там, ну, даже не одеколон, у него слишком узкая дырочка там для этого, а вот из-под лекарства какого-нибудь. Ну вот, на которую было обычно положено колёсико от детского конструктора, металлическое. Оно было хорошо тем, что у него была, значит, вентиляция через дырочки и в центре у него была для оси, значит, эта самая, вот, отверстие с муфточкой такой. Вот в это отверстие вставлялся импровизированный фитилёк. Во флакон наливалось… наливался керосин и это горело. Это называлось «коптилка». Она, ну, свечи — это была вещь дорогая всё-таки, а вот это, так сказать, такое вот обычное освещение. Сидение при коптилке — это вот на всю жизнь запомнил, много их было сижено. А фитиль [усмехается], я помню, у нас был плед, какой-то там… Вещей было невероятно мало, потому что это, я помню, что, когда мы переезжали с этой самой дачи, вот, бахметьевской дачи вот в этот стандартный дом, весь наш скарб уместился на одну телегу, вот всё туда влезло. Когда мы переезжали со своей предыдущей квартиры сюда, но это тоже было в семьдесят… в начале семидесятых годов, давно, нам понадобилось три полных автомобиля, хотя вещей было сильно меньше, чем сейчас. А от тех времен не осталось почти ничего, хотя вот это вот полочка, которая вот, вот эта черная вот, которая стоит здесь, она с того времени, только она тогда была жёлтой, но я в порядке детского вандализма её изрисовал и изрезал, вообще говоря, очень основательно, иска… искалечил. Она ещё дореволюционная, дореволюционного времени, так сказать, происхождения. И когда я вошёл в конструктивный возраст, я её покрасил чёрной эмалью и, значит, [нрзб. — 00:20:45,063] как-то починил, да. Починил, так сказать, таким образом, что тоже уже давно. А тогда она была полка, которая осталась от детства моей матери ещё, то есть, так сказать, то есть достаточно старая. Ну вот. Значит, это самое. Вот она была, ну ещё было две железных кровати, там ещё что-то.
[Она двадцатых годов, получается?]
Ну, она десятого года рождения, значит, да, ещё до Революции. Вот. Ну, об этой стороне жизни, если потом понадобится, я расскажу отдельно. Вот. И вот, значит, у нас там было… среди прочего скудного имущества у нас было два пледа [нрзб. — 00:21:23,640] были одеяла, из которых, так сказать, торчали такие… бахрома из таких хвостов, таких вот этих самых. Мать отрезала по одному хвосту и опускала вместо фитиля туда эту самую. Что человек она была такой как бы, скажем там, не очень задумывающийся над бытовыми сложностями и, в общем, торчит — так и хорошо там. Как я помню там, когда нужна была вата, она вспарывала матрас и вынимала кусок ваты, значит… [Усмехается.] Человек была антибытовой, прямо скажем. Потому что, когда, так сказать, опять-таки, войдя в некоторый возраст, быт стал осуществлять я, а до меня осуществляла бабушка, вот, пока она не впала, в общем, в некоторое такое старческое состояние. Ну, она умерла в пятьдесят третьем году. Вот. Так значит, это самое, да, вот в… вот такая вот история. И вот в этой, значит… А так всё было мило, ну за вычетом того, что в… городок писателей ещё не включал очень многих тех кусков, которые есть сейчас.
Переделкино, Мичуринец, Суково, Солнцево — «от Внукова до Сукова читают все Баукова»
Станции Мичуринец не существовало, было Переделкино, а потом было Внуково, вот, а предыдущая, перед Переделкиным, станция, которая сейчас называется Солнечная, сейчас уже Москва. Тогда это, конечно, никакая не Москва была. Вот. Она называлась Су\ково. Вот. Неблагозвучно. Вот. И у нас был, жил такой вот в нашем стандартном доме такой симпатичный поэт-фронтовик, тоже сильно пьющий, по фамилии Бауков. Вряд ли кто его сейчас помнит, но вот такой был… ну и меня никто не помнит, я говорю, там жили в основном люди, которых сейчас мало кто помнит. Вот. И вот, значит, была так… был такой стишок, кем-то сложенный: «От Сукова до Внукова читают все Баукова». Был, так сказать, местный, такой местный текст. Вот. Баук… Бауков, я помню, как мы с ним, почему, как мы с ним вместе оказались на одной территории какой-то, не помню, около дома, мы нашли какую-то белку, какую-то кем-то… А, кошка ли её что ли по… поранила, я не помню, но мы её как-то вот спасли, пошли к нему и там мы эту самую белку пытались поить молоком. Я помню, что это была… опыт не очень удачный, по-моему, она не хотела, ей было не до молока, но в общем, вот какое-то такое вот, как говорится, что-то доброе было и вот попытка эта мне так и запомнилась с тех пор.
[Внуково было как-то означено?]
Да, да, Внуково, Внуково было… станция Внуково, она была… и тогда была и, в общем, это самое, там вот. Остальные станции более или менее-то, они также, Востряково, Матвеевское. Там это всё, как сейчас называется, так оно тогда так и называлось, только Су\ково была, видимо, может, в шестидесятые, может, в пятидесятые годы переименовано в Солнечное. Там посёлок Солнцево был, поэтому её так и переименовали. Значит, это самое. И в каком году точно не скажу, но где-нибудь, может быть, в районе пятидесятого года была поставлена, там большой очень прогон, станция Мичуринец. Посёлок Мичуринец существовал до войны ещё. А вот станции там не было, и люди ходили от Переделкина или от Внукова, или оттуда, или отсюда, в общем, довольно прилично, надо сказать, с дорогами там тоже было. Волки в лесу были, и рассказывали драматическую историю, как учительницу, вот, какую-то, которая шла там в школу, там, они разорвали просто, волки. Там её только по тетрадкам наш… опознали, так сказать, это остатки, так сказать. Забор между писательскими участками за время войны стопили в основном в печках.
Дачные места: дача Чуковского, Пастернака, аллея Мрачных классиков
[Заборы до войны были высокие?]
Нет, они не были таки… такими…
[Чтобы только увидеть границу участка дачи?]
Нет, я не помню, какие… да какие они были до войны, я не знаю, естественно. После войны их просто не было вообще, там просто это было всё, так сказать, какое-то такое. И там вот можно было от нас выйти, значит, там, перейти дорогу, сейчас это всё называется улица, там, Горького, они всё очень писательское такое, тогда это никак не называлось, просто шоссейка и шоссейка, так сказать, вот. И на той стороне была, ну, как бы такой лесок, в сущности, на самом деле это были бывшие какие-то писательские дачи, которые с фасадов были, сохранили заборы. Нет, это были невысокие штакетники такие, так сказать, через которые было хорошо видно, а там, значит, если пойдёшь, пойдёшь, пойдёшь, выходишь к даче Чуковского, с заду только, потому что, значит, она вот с фасадной части, вот. Корней Иванович, кстати, жил там, вполне хорошо его помню. Вот, значит. [Вспоминает.] Да, и между ними, я говорю, что это самое, это было стоплено, а многое не было построено, попросту говоря, если вот так от этого нашего стандартного дома, а он находился, ну, я не знаю, вы были в Переделкине?
[Да, был.]
Да, были, да. Ну вот если от станции Переделкино идти или ехать, так сказать, там, в сторону городка писателей, идти, идти, идти, в конце концов, упираешься в такой т-образный перекресток, так скажем, вот так, когда дорога расходится в две стороны. Помните, да? Вот по…проезжаешь там, сначала там будет поворот к даче Пастернака, там, поворот, там, так называемая улица [нрзб. — 00:27:06,721], которая тогда не была, к даче Чуковского. Вот.
[Пастернак, Чуковский…]
Да, это… значит, это самое, там направо пастернаковская, потом дальше немножко будет эта, которая назвалась аллея Мрачных классиков, это самое, там вот это, там, Чуковского… Катаева, Чуковского, Инбер была, так сказать, ну и так далее. Вот, значит, и собственно дача Бахметьева по этой же линии, только туда дальше немножко. Вот. А, значит, да, а потом вы упираетесь в такие ворота как бы, и вот от этих ворот расходятся в две стороны, это самое, в две стороны расходится дорога, которая направо идёт к станции Баковка, собственно говоря, выходит на Минское шоссе. Вот. И если перейти его, там дальше будет станция Баковка белорусской железной дороги. А если налево, она упирается в киевскую дорогу, в Мичуринец, станцию… не станцию, станция в стороне будет, но в посёлок Мичуринец, вот просто да.
[Я как раз от Баковки ходил.]
Да, ну вот, вот если вы, так сказать, от Баковки вы доходите, вот до этого, проходите пруд, проходите. И вот значит, дальше будет, этот самый, вот этот вот развилка и поворот на станцию Переделкино. Так скажем вот. И вот от этого, если от этого т-образного поворота идти в сторону, как бы в сторону киевской дороги, к Мичуринцу, через несколько шагов буквально там будет вот этот длинный деревянный дом, очень приметный такой. Вот, по правую руку, да. Ну, вопрос, понимаете, я как-то далеко немножко ушёл в этом во всём вот, да. Так.
[Когда бы вы ещё про белку вспомнили бы.]
Ну да, ну да. Нет, о населении стандартного дома вообще можно было бы поговорить, потому что там вот кроме Александра Андреевича и Клавы, так сказать, там жили и другие люди, по… поэта Баукова, он вот, там ещё, там жил… жила сестра писателя Житкова, Бориса Житкова, вот… сестра, по-моему, звали её Фелисат. Она была старушка, вот как его… Фелисат Фёдоровна? Я не помню. Ну вот. И её то ли племянница, то ли дочка Оля, с которой мы немного дружили, но она была чуть старше ме… немного старше меня. Вот. Жил писатель Шехтов такой, который тоже фронтовик бывший. Жил писатель, исторический писатель Язвицкий, несколько более известный. Писатель Югов, тоже более известный. Ну, Язвицкий ещё, кроме того, был писатель-натуралист. Он, в частности, переработал… в его переработке существует трёхтомник Брэма [«Жизнь животных» А. Э. Брэм.]. Вот. И позднее я купил его в магазине, обнаружив, что те картинки странных животных, которые мне он дарил и давал, так сказать, это были корректурные картинки к этому изданию, попросту говоря, что довольно, довольно, так сказать, тоже забавно. Вот. Значит, да, это Язвицкий. Вот. Югов, оба, и тот и другой, писали ещё какие-то исторические романы, но я сейчас не скажу какие. Вот. Вот такая была, так сказать, такое… такое там было население.
Кривоарбатский переулок, писательский быт, поселок Измалково
[Вы часто перемещались?]
Вы знаете, пока, значит, нет, в сорок третьем году мы вернулись, и Вера Николаевна позволила матери и нам, так сказать, жить там, ну, до её возвращения, что-нибудь такого, так сказать, типа. Мы не знали, когда она вернётся… я не знал, мать, возможно, знала, я не знаю, там, какие у ни… У Веры Николаевны была большая комната, разделённая занавеской на две части. Одна, лицевая часть с большим окном, с мраморным подоконником выходила вот в Кривоарбатский переулок, на и… на здание, которое называлось Военный трибунал и на зады кинотеатра Юного зрителя, тогда назывался театр, сейчас там нет его [нрзб. — 00:31:24,201] потом была Школа киномехаников и так далее. Кинотеатр был довольно приятный, потом скажу. А задняя часть была отделена занавеской, где мы с бабушкой на своих кроватях, так сказать, и спали. Жили тесно тогда, вообще везде жили тесно.
[Вы с бабушкой из эвакуации приехали?]
Да, бабушка, мы: мама, бабушка и я. Матери, конечно, несладко пришлось, поскольку старая, беспомощная мать, она была не настолько стара, но что-то сказать, она умерла… она была семьдесят восьмого года рождения, соответственно, в пятьдесят третьем она умерла семидесяти пяти лет, но она довольно рана сдала. Ну, у неё сохранились навыки провинциальной барыни, провинциальной дворянки, которая никогда в жизни нигде не работала, была, ну, домохозяйкой, была, так сказать, там и так далее. Ну и она рано довольно стала, так сказать, ну, как-то так, старческое такое, впадать в старческий такой… неадекватность некоторую. А мать была человеком безумно уставшим, мы не москвичи были, мать была, они из Саратова, это саратовская семья из саратовских небогатых дворян, скажем так. Мать уехала оттуда в тридцатые годы и довольно долго мыкалась по общежитиям, по каким-то там съёмным, у знакомых и прочее, прочее, пока не вышла замуж за отца, но это недолго продолжалась, потому что началась война, и потом, ну, так сказать, война их, строго говоря, развела. Может быть и так разве… разошлись, это я не знаю, но вот так, произошло так. И она, да, так вот, Вера Николаевна разрешила, в основном, конечно, это для мамы было важно, потому что ей нужно было бывать в городе, ей нужно было, она была… Во-первых, её литературная, так сказать, жизнь — что называется, волка ноги кормят, там надо было двигаться, ходить в редакцию, в журналы, там чтобы получать какие-то материалы для консультаций, для рецензий там и прочее, чем жил, так сказать, писатель, литературным приработком [нрзб. — 00:33:53,998], потому что там книжка выходила редко, эти деньги, денег хватало на то, чтобы заплатить долги, в основном, там и так далее. Ну, какие-то вот такие писатели такого, вельможного типа, они, конечно, там получать могли большие достаточно деньги, потиражные большие и так далее, и жили очень недурно. А что касается, значит, ну, конечно, так это, от заработка к заработку. И периодически она работала в школе, преподавала.
[Что преподавала?]
Литературу и русский язык, да. До войны она преподавала языки, где-то такое там в рабфаке, но это давно было, ещё в Саратове. А так она, собственно, пединститут и кончала. Ну, кончала таким тоже диковинным довольно образом, потому что её в Саратове как классово чуждую не брали в университет, поэтому ей пришлось уехать во Владикавказ, где жила её тётка, сестра бабушки моей, сестра матери. Она была замужем за таким профессором Миндалёвым, такой был русист такой вот, у него есть работа, знаете, наиболее известная, там даже есть… по былине «„Повесть о Меркурии Смоленском“ и былевой эпос», такая статья есть, и кроме того, его магистерская диссертация — «Моление Даниила Заточника». Ну, помню, такая фигура, скажем, не Бог весть что, но тем не менее. И он её каким-то образом, её так как-то взял. Там она проучилась год, вместе с [вспоминает] кстати, с Адаровым, писателем Адаровым, знаете, такой был? Николай Адаров. Как-то ей удалось, по-моему, вольнослушателем поучиться и в Саратове, может быть, до этого, потом туда она поехала, а потом она переехала в Москву или… в какой последовательности, сейчас не скажу. И в Москве она заканчивала уже Областной пединститут имени Крупской. Ну, и соответственно, она преподавала. В сороковые годы она, как раз вот после войны, она пошла в школу, ну, отчасти для того, чтобы просто заработать деньги, потому что жить было не на что, отчасти, чтобы, ну, как говорится, собрать материал какой-то там для следующей книжки. Ну вот, у неё в это время вышла, одна повесть до войны ещё вышла, вторая повесть вышла после войны сразу, и третья, вот она собирала эту, которая потом, в начале пятидесятых, так, о школе. Кстати, вот у неё, её любимым учеником был Грейнем Ратгауз, помните, германист? До недавнего времени, до его смерти, так сказать, это был самый старый мой знакомый, то есть с сороковых годов, там я его мальчишкой ещё помню. Ну, он старше меня. Так ей нужна была, ей, конечно, Москва была нужна и нужна ещё как. Собственно, что, ну, мы жили, в общем, в основном, круглый год там, загородом, до сорок восьмого года, потому что в сорок восьмом году мне надо было пойти в школу, потому что мне исполнилось семь лет. И там стоял вопрос, потому что, если вы проходили мимо пру\да, там по ту сторону пруда, там деревенька такая, Измалково есть, то есть это деревенька. У меня с этой деревенькой много чего связано позднее.
[Сейчас она сохранилась?]
Она есть, да, посёлок Измалково, он есть, да. Ну, тогда это было, значит вот, нас туда возили на выборы в клуб. Если, может, помните, а может, и видели где-нибудь советская картина «Все на выборы»: телега едет и там с гармошкой, там и прочее. Мы без гармошки, тем не менее, я помню, как нас через зимний пруд перевозят на этом самом туда. Почему? Там пешком дойти было, в общем, ерунду, но вот как-то это так, с музыкой, и значит вот на голосование. Как уж оно происходило, я не упомню, естественно. Вот да, так сказать, такое было. Там была школа, это ближайшая была школа из, так сказать, территориально. Ну, тоже не в двух шагах, надо сказать. И, конечно, машин тогда было очень мало. И вот знаете, вот если вы помните, когда вы шли от Баковки и дальше, от пруда, дальше был такой подъём довольно сильный туда.
[Сейчас сглажен, наверное.]
Сейчас может быть. Знаете, мне по детству казалось, что он довольно приличный, но, во всяком случае, мы на санках разогнавшись вот по этой дороге прямо к пруду вот так, такой вот вираж. Ну, сейчас представить себе невозможно. Тогда машина, ну, господи, ну, одна в час проедет там, не больше того. Хотя, конечно, в этом какая-то рискованность, конечно, была. И там была школа, четырёхлетка, четырёх классов. Что-то мать засомневалась на счёт четырёхклассного образования, а другая была школа в посёлке Чоботы, около станции Переделкино, но это километра полтора минимум, и всё-таки восьмилетнего, семилетнего мальчишку так вот каждый день туда-назад, не то, чтобы невозможно, не то, чтоб как-то, но они решили всё-таки поехать, перебраться на зиму, перебираться в Москву, вот в комнату Веры Николаевны. И с этого времени мы стали зимами жить, с сорок восьмого года мы стали жить в Москве у Веры Николаевны.
Арбат, школа, Гоголевский бульвар
[То есть не зимами, а начиная с?..]
С первого сентября, с первого сентября, да. И там меня записали в школу номер шестьдесят один, которой сейчас не существует. Здание существует и поныне, оно находится вот недалеко, вот знаете, от того места, где стоит памятник Окуджаве, в Плотниковом переулке, если вы пройдёте по этому Плотникову переулку там буквально несколько шагов.
[Налево? Это по Арбату?]
По Арбату, да. Вот Диетический магазин, между Диетическим магазином и, как бы скажем, ну, там переулок уходит туда вглубь, туда, в сторону к, ну, условно, к Зубовской, к Москве-реке там и так далее. И вы немножко туда пройдёте, то через несколько шагов, совсем несколько шагов будет налево ход, путь в Кривоарбатский переулок с его этим диковинным круглым домом, Господи, как это… этом, знаменитом. У меня с детства вызывало оторопь, когда я в школу ходил мимо него. И вот, значит, если ещё несколько шагов, то вот по левую руку напротив будет такое же здание школьного типа, это гимназия вообще была когда-то, до Революции. Кажется, это то ли реальное училище, то ли гимназия. Школьное здание, действительно школьное. Оно было семилетка, но когда, вот как раз, когда я, меня туда записали и когда мы доехали, кажется, до соответствующего это, нет, раньше, конечно, нет, его сделали десятилеткой, вот, оно стало десятилеткой нормальной. Я, когда мы кончили десятый класс, её расформировали. То есть, выпусков было вот ровно там несколько штук только всего-то на всего. И вот в этой школе я, собственно говоря, и проучился все десять лет, хотя, когда Вера Николаевна вернулась из Монголии, это отдельная история. Как вы понимаете, я тогда никак свою жизнь с Монголией не связывал и вообще. Вот это…
[Эти переклички, сосед писатель…]
Вот странная жизненная перекличка… нет, ну, сосед писатель, там это понятно — мама писатель, профессиональный писатель, член Союза писателей с сорок третьего года, это всё понятно, что она там, так сказать, там литературная среда и прочее, это всё, это всё нормально.
[А Вера Николаевна?]
Вера Николаевна, которая уехала в Монголию, Вера Николаевна, поэтесса, переводчик Верхарна, человек вообще приметный. О ней довольно неплохой текст там написал один сейчас человек такой, специалист по архивным разысканиям. Хотел всё время сделать ему там некоторые поправки, неточности, исправить некоторые неточности, так и не успел. Сейчас он даже как-то, ну, полуопубликован, так скажем. Женщина была интересная, очень, я бы сказал, колоритная, так сказать, по-своему, такая очень стихолюбивая. И сама стихи писала, неплохо по-своему, и печаталась, там первые у неё книжки вышли, там где-то такое, книжка… выходили в начале двадцатых годов. Она из Казани была родом, вообще из казанского такого тоже литературного кружка. Ну, это отдельная история. У неё потом были длинные отношения с Осоргиным, по-моему, который очень звал её туда, но вот как-то не решился, зря. И она вот, вы знаете, ей принадлежит довольно известный «Словарь синонимов русского языка», школьный такой, вот который… просто до какого-то времени он был единственный просто.
[Он до двухтысячных был вполне в школе.]
Нет, он школьный переиздавался как таковой множество раз, переиздавался. Да, я помню, как она его составляла, да. Ну, интересная она была женщина, и добрая, и милая, и хорошая, и яркая и так далее. Да и сам по себе этот поступок, вот так вот, всё-таки при всём том, конечно, наверное, мы в её вещах там достаточно сделали беспорядка, так сказать, там в этом самом, в этой квартире.
[То есть она оставила все вещи?]
Естественно, естественно. Естественно, всё было оставлено там и так далее. И в пятидесятом году, когда она вернулась, мать, которая стояла с какой-то бесконечной очереди на жилплощадь, получение жилплощади в Союзе писателей. Я говорю, что она была лично хорошо знакома с Фадеевым, который, тем не менее, ну, во-первых, мать не умела пользоваться такими вещами, во-вторых, он готов был ей, там, я не знаю, дать денег в случае чего, когда, если, так сказать, там она, ну, она старалась не просить, естественно, никогда. Но вот квартиру, это было его, там, я не знаю, вы представляете, что это такое, Фадеев того времени.
[Конечно, огромное влияние…]
Гигантское. И тем не менее, и тем не менее, он говорил, что я… Он, в общем, в конечном счёте, вот эту самую, там, способствовал тому, что ей дали вот эту комнату в том же районе, на Гоголевском бульваре, где мы прожили до пятьдесят седьмого года. Вот, и тоже он говорил, что… я не знаю, по-моему, это тоже всё-таки некоторое преувеличение, но говорит, когда мама сказала: «ну, куда три… трое в двенадцатиметровую комнату в коммуналке», «вот я, Лёль, мне, говорит, за это вам и мне, говорит, и за это горло перегрызут, говорит». Что он имел в виду? Я не знаю. Ну, там тоже, они, как вы понимаете, взаимоотношения, судя по последующему развитию событий, были, конечно, те ещё. Вот, там ему, там же на пятки наступали там многие, так сказать, фигуры следующего поколения, там типа Суркова, там и так далее, а он был сам… там Федин, Сурков там и так далее, а он был по-своему уязвим, главным образом в силу своего алкоголизма, конечно так. Да и вообще, кто тогда был неуязвимый, уязвимы были все. Тогда вот и в пятидесятом году, ровно когда он переехал, приехал, нам как раз, вот, вот так вот у меня в жизни такие вещи были два раза. Один раз, когда, вот тогда, когда нам некуда было деться фактически, и Вера Николаевна была готова оставить нас у себя, всё равно, но там негде было. Вы знаете, сколько у неё помещалось людей в этой комнате, там, для монголов это был такой перевалочный пункт, потому что там приезжали, ну, она, понятно, она обзавелась, она вообще была человеком очень компанейским, она обзавелась огромным количеством знакомых. И я помню, значит, там такой молодой человек Барс…
[Эта комната же двенадцать метров?]
Даже больше немножко, даже немножко больше. Ну, здесь около, там, около того, поменьше немножко, да. Девушка, которая дружила со старшей дочерью Веры Николаевны по имени Шинза, Барс, были ещё какие-то люди, вот этих двух я хорошо знал, поскольку они бывали часто. В прошествии многих там лет, ну, не так уж и много, на самом деле, когда я попал в Монголию, я узнал, что, оказывается, Шинза и Барс — дети Ринчена, ну, а она была прекрасно знакома и дружна с Ринченом, Вера Николаевна, [нрзб. — 00:47:33,392] тоже, ну, Аня её уже помнить не может, она позднее родилась [нрзб. — 00:47:39,508]. Но с Ринченом особенно, с этой семьёй она была очень близко, так сказать. У меня там из её библиотеки целый ряд там оттисков там и так далее с надписью «Вере Николаевне от Ринчена».
[…]
Ну вот я говорю, что вот это вот, я помню, как Вера Николаевна приехала, навезла там этих бурханчиков каких-то там, этих табакерок, всяких рисунков, там что там только не было, там. Вот кольцо вот это, это из её, так сказать, из её коллекции, да.
[Да, раньше кольца делали специально…]
Да, да, да. Ну, с драконом такое, ну, китайское скорее такое. Но вот это оттуда вот, может быть, где-то ещё что-нибудь есть. Хотя…
[Это медь?]
Это бронза, бронза.
[Скорее сплав.]
Сплав, да.
[Не латунь?]
Нет, нет. [Вспоминает.] Да, и значит, вот тогда, это произо… Это, значит, такое вот у меня было тогда. И второй такой у меня случай был, когда вот так судьба распорядилась, это когда Маша родилась, в шестьдесят восьмом году, когда мы с Валей вернулись, мы с Валей, значит, поженились в шестьдесят седьмом соответственно. Значит, Машка родилась в шестьдесят восьмом, а мы жили вот в следующей квартире своей на Хорошёвском шоссе, где у нас было…
[Третья, получается, квартира?]
Ну, третья, да. Если считать Переделкино, то четвертая или пятая.
Дача в городке Мичуринцев, роддома, Виктор Луи
[В Москве?]
Да, в Москве третья, да, эта четвертая. И мы, значит, там жили, там у нас было две комнаты. Про Хорошёвку я расскажу потом, но, во всяком случае, эти две комнаты были, в которые, значит, в одной комнате, которая была общей, жила мама, а вторая, проходная, которая была поделена на два пенала, если вспомнить Ильфа и Петрова, вот такие вот узкие. Там было два окна, вот так, и, значит, вот так была перегородка. В одном пенале, поменьше, поуже, жил я, а в другом пенале Варлам Тихонович. И, собственно говоря, куда её везти из роддома? Потому что, я помню, что, значит, мы зиму мы прожили, поскольку жить там было почти что негде, и мы сняли дачу в Переделкине, вот в Городке писателей, но около Мичуринца, у вдовы писателя Казакевича, им там, когда, значит, вот он уже умер, а вдовам оставляли на год, на два эту дачу, не собственные были это такие, данные были дачи. Вот дача в буквальном смысле слова. И она, значит, и там мы прожили зиму, а когда приспело рожать, в марте вот. Вчера у неё был день рождения, как раз ровным счётом, значит, у Машки [Мария Сергеевна — дочь НСЮ]. И значит, вот к этому времени, я помню, был очень тёплый март, и мы вернулись в Москву и сидели в своих этих самых пеналах. Вот, и я помню, пришла наша приятельница, близкая приятельница, такая Маша Слоним, такой, ну, такой журналист. И что-то она, значит, там на Валькин живот посмотрела, говорит: «Знаешь, Валька, так тебе пора, говорит, иди, иди, говорит, давай это самое». Я помню, как… А тогда был такой порядок, собственно, он отчасти есть и сейчас, кажется, что можно прийти в любое место, любой роддом, если… и что надо прийти после шести вечера, потому что если до шести, в рабочее время, то тебя перевозкой могут перевезти куда-то в другое место, а цель была, поскольку Машка сама вот таким образом схитрив родила своего сына на год раньше Маши моей, дочку родила в Институте гинекологии и акушерства, что было очень…
[Модно, престижно?]
Да не престижно, дело не в этом, дело в том, что условия хорошие.
[Как сейчас.]
Ну да, вот. Машке никакими престижами, понимае… да хоть… Несмотря на то, что она была внучкой Литвинова там и так далее, ничего это не…
[Идея престижности там идея чистоты скорее.]
Да. Чисто, палата на двоих и всё прочее, вот. Я, значит, это самое, отвёз её в этот самый Институт, сел на шестьдесят четвёртый автобус, который тогда шёл, значит, вот, и там. Тоже вот то, что это самое, она оказалась в одной палате с англичанкой, которая оказалась женой такого известного и очень тёмного авантюриста, такой Виктор Луи, такой был. Наберите как-нибудь в Гугле, там про него расскажут. Вы не представляете, что такое роддом в советское время. Мужчин туда, ну, как в царство амазонок, его должны были убить при входе, так скажем. Никогда там, никаким образом вообще, близко. Так этот Виктор Луи он ухитрялся туда приходить, навещать, значит, эту самую свою супругу, приносил ей портативный телевизор, это в то время, шестидесятые годы. Так вот, когда, значит, Машку я получил оттуда, в этот день, когда мы её брали из роддома, Варлам Тихонович получил ордер на комнату этажом выше, за выездом. Вот просто, вот понимаете. И у нас образовалось два пенала. Ну, второй пенал тоже был, понимаете, вот эта вот тахта, на которой вы сидите, она ровно того времени, и она ни разу не перетягивалась, пружины у неё, она хорошего качества, она была куплена к свадьбе нашей. Мы купили её, поскольку, значит, вот, другой мебели не было. И когда её раскладываешь, [нрзб. — 00:54:03,246] вот до сих пор, вот примерно там, шире. И пенал она занимала весь. Я помню, Машка болеет и, маленькая, значит, соответственно, прыгает по этой самой разложенной тахте, там врач приходит, там, значит, что-то её осматривает: «Ну, говорит, ничего, поправляется, всё лучше там и так далее». Валя спрашивает, говорит: «А можно на пол-то её спускать?» Так оглядывается, говорит: «Где у вас пол?» [Смеётся.] Так вот, значит, вот говорю, таких два было случая.
Филипповский переулок
И тут вот мы, тогда мы переехали из этого самого, с Кривоарбатского переулка в тоже старенький дом в Филипповском переулке, который был флигелем большого дома, выходящего на Гоголевский бульвар, дорога ровным счётом по Сивцеву Вражку, такая улица там есть. От, почти от самого Гоголевского бульвара, это Филипповский переулок, последний переулок, параллельный Гоголевскому бульвару, если от Сивцева Вражка, то по правую руку. В нём довольно известная церковь, там находится, он упирается в Большой Афанасьевский, который вот так… Ну, все эти переулки целы, но домик тот наш постоял довольно долго, но уже, это самое, тот был собственный дом чей-то, двухэтажный, соответственно, в общем, он был маленький, потому что было четыре квартиры, на каждом этаже по квартире, кстати, как и на Хорошёвском шоссе, но там другая конфигурация. Он был деревянный, у него были изразцовые печи, которые, естественно, уже не функционировали, поскольку было печное… то есть, в смысле, такое отопление, ну…
[Паровое?]
Паровое, паровое, нормальное, нормальное, как сейчас. Но он был сквозь, сквозь деревянный, лестница деревянная, перила деревянные, там всё было деревянное. Для меня это было не диво, поскольку я вырос… на этом самом, где всё, естественно, было деревянным. Для меня скорее было странновато вот это шестой этаж, высокий мраморный подоконник и внизу город, так сказать, там и так далее. Вот, значит, так сказать, там открылась новая страница жизни. Но то, что мы остались в том же месте, дало мне возможность не переходить в другую школу. Только удлинился, удлинилась дорога, потому что…
[Не на много ведь.]
Вы знаете, это как, как сказать. Конечно, не на много, а в десятом классе, когда мы переехали уже на Хорошёвку, я ездил всё равно, чтобы не уходить в другую школу и заканчивал всё равно тут же. А здесь, как так, да, ну школа, это отдельная история, и так сказать, отдельный какой-то рассказ.
[Перерыв 00:56:51,996 — 00:57:28,766.]
[Вы чувствовали отличие Москвы от Переделкина?]
Нет, мы в Москву ездили и до этого, мы постоянно ездили туда-обратно, мы бывали, я эту квартиру хорошо знал, и что такое… по-видимому, мы… мне трудно восстановить, потому что воспоминания, вообще воспоминания — вещь рваная, а уж детство — тем более. Ну вот, поэтому я не могу сказать с полной уверенностью, вот сколько раз и в каких случаях мы бывали, бывали в Москве, но мы бывали, мы там и жили какое-то время, там и всё прочее, поэтому эта мне квартира была не чужой совсем, и город не был чужим. Большую часть времени, до сорок восьмого года, мы действительно проводили с бабушкой загородом и зимой, и летом. Ну вот, но тем не менее мы достаточно много бывали в Москве и у меня там полно детских впечатлений именно от Москвы, ранних детских. У меня есть странное воспоминание бомбёжки, которой, как все говорят, в сорок третьем году уже не было, в сорок третьем году я вряд ли мог чего помнить особенно, а уже позднее всё-таки так, как-то, так сказать, вот интересно, но у меня очень чёткое воспоминание про то, как мы… как начинает выть сирена, притом оно не спровоцировано никаким кино, потому что это до тех, ещё до тех кино, когда вообще это дело стало происходить, когда, так сказать, когда… когда это стали показывать того, как… скажем так. И белый день и мы с бабушкой выходим, спускаемся вниз и идём к метро, при том, что надо иметь в виду, что вот то метро Смоленская, ближайшая, которой все мы пользуемся, там и так далее, вот Арбатско-покровской линии, его не существовало, как не существовало вообще Арбатско-покровской линии, а за метро Калининская, то, что сейчас как называется…
[То есть жёлтая ветка?]
Ну да, метро Калининская, где как это вот?.. Где перрон с двух сторон, а поезда в серединке, помните?
[Александровский сад.]
Метро «Калининская», Смоленское метро, ночевки в метро, портрет Ленина
Александровский сад, да, тогда называлась Калининская и с неё поезд попадал на Арбатскую, но не ту, которая сейчас вот эта вот, на кот… А, то есть нет, простите, от Калининской в другую сторону, так он доехал таким же образом, а, ну, попадал прямо на Площадь Революции просто. А вот этой дублирующей ветки рядом, про которую существует масса разного рода легенд, как она возникла, её просто не было. В была… было то, что называется вот эта самая Филёвская линия. Вот. Ну, она была, она кончалась на Киевском вокзале, там не было никаких Филей, ну просто вот это вот, так сказать, вот этот вот, наше Смоленское метро, это было Смоленское метро на той стороне по отношению к нам, на той стороне Смоленской площади. Причём сейчас там стоит огромный дом и вход, павильона нет, а просто входишь и попадаешь в это самое, а тогда этого дома, который построен был при нас, его не было, а был павильончик небольшой, квадратик такой, кубик такой вот. Значит, вот мы входим туда и спускаемся вниз, и, что я помню, что на рельсах, поезда не ходят никакие, и на рельсах лежат горизонтально, вот так положены доски. Почему? Да и думать это довольно сложно. Вот этот эпизод, который должен быть очень, но вроде говорят, что было всё-таки что-то, когда там какой-то самолёт прорвался, что-то было на самом деле, как-то не очень отложившееся, не зафиксированное. Таких, настоящих бомбёжек уже в это время не было. Следов бомбёжек было, Господи, театр Вахтангова, в который попала бомба, который стоял, так сказать, такой мёртвый в это время. Там, ресторан Прага, который был… стоял мёртвый, помню, тоже был повреждён, кажется. И так далее. Наш дом не был повреждён, он был в хорошем, так сказать, в хорошем виде. Ну вот, а бомбёжек, так сказать, не было. Вот. Но моя… мой, естественно, изначальный, изначальное городское пространство, это Кривоарбатский переулок, двор, который, как мы в него попадали, я сейчас что-то такое не соображу, там, кажется, был проход, подворотня была, по-моему, туда глубже немножко. Да двор, ну, большой старый московский двор, унылый, мрачный, естественно, колодцем, так сказать, со всех сторон окружённый домами, там то вот так, это самое. Чердак. Но это, конечно, отдельное приключение, так вот, ничего толком я не помню, помню, что мы залезали на чердак, бродя там в этих каких-то опилках, в чем-то ещё, не помню, значит, в общем, темно, паутина, жутковато несколько там и так далее. Подвал не помню вот, удавалось ли нам залезть в подвал. Может быть, и удавалось, но не запомнил я этого.
[Возвращаясь к этому воспоминанию или лжевоспоминанию, про доски на рельсах. Шумилова Елена Петровна, долгое время было воспоминание, что в квартире, где она жила в Москве с матерью после эвакуации, висел портрет Ленина и на неё смотрел. Или Сталина? По-моему, всё-таки Ленина. И она говорит: «Ну как же, у нас в квартире в принципе такого не могло быть, откуда, как я это помню, откуда у меня такая идея?» Эта комната, вот там большое окно, собственно, и вот прямо напротив окна, как выходишь из комнаты, портрет висел и смотрел всё время. И только, говорит, потом, когда я спросила и уточнила, что оказалось, когда она была в эвакуации, была нянька, которая за ней следила. И когда маленькая Елена Петровна шалила, вот нянька брала, снимала со стены портрет этот самый и говорила: «У-у», пугая её тем самым. Эта штука, она трансформировалась, отложившись на позднее время, и таким образом, стала ключом к формированию этого воспоминания.]
Нянька либо отважная, либо очень наивная, конечно, да. Таким образом, так тогда не шутили в основном это.
[А были ли какие-то места в городе, вне двора, которые были значимы? Или за пределы двора это не выходило?]
Ну, понимаете, тут, да, начинаются, так сказать, разного рода операции, я отдаю себе отчёт в этом. Значимые были места, в которые мы ходили с матерью или с бабушкой. Естественно, во-первых, это путь до метро. Путь до метро, это мог быть путь до метро Смоленская, близко, и до метро Арбатская. Арбатская, ещё раз подчёркиваю, вот Арбатско-покровской линии не было, павильона не было, который сейчас задавлен этим самым Генштабом, а там был павильон вообще в принципе стоял. Ну, вы, видимо, не застали его уже.
[Нет, конечно.]
Старый Арбат, Новый Арбат, магазины послевоенного времени
Ну, можно найти фотографии. Но он был построен в пятидесятые годы. А в это время было только вот это вот метро, которое звёздочкой такой красненькой, вот это вот оно, оно было. Вот это и было единственное Арбатское метро. Вот, вот туда мы доходили. Это была одна дорога. Дорогу саму не помню. Арбат был по тем временам довольно оживлённой, достаточно грязной улицей. Ну как сказать, он ведь… Того, что сейчас называется Новый Арбат, не существовало, это были переулки. Вот, там никакого выхода туда, на Можайское шоссе, не было. И это был, Арбат был единственным радиусом, выводящим, собственно говоря, от Кремля. Это Сталинский маршрут. Ну, если кто-нибудь помните или не помните, вот есть у Слуцкого стихотворение, «Бог» называется, оно даже было опубликовано в «Правде» в хрущёвское время. Ну как же: «Однажды я шёл Арбатом, / Бог ехал в пяти машинах, / От страха почти горбата в своих пальтишках мушиных рядом тряслась охрана. Было поздно и рано». Ну, хорошие стихи, есть такие стихи. Вот, этот самый, так это была его трасса, поэтому, конечно, догляд там был, в общем, очень такой, основательный. Очень следили за тем, кто прописан, кто не прописан. И у нас, я помню, была проблема в том, что у Веры Николаевны была прописана только мама, а прописать, по каким-то причинам, она не хотела прописывать бабушку. И когда бабушка там ночевала, там, кто-то из соседок шёл и докладывал в милицию. Вот, значит, приходил участковый и говорил: «Так пропишите старушку, ну что вы, ей Богу», говорит, это самое. С участковым было вполне так. Но за этим очень, действительно, следили. Ну вот была эта улица, вот, были хождения в магазин. Естественно, тоже там понятно. Во-первых, магазины там ведь ещё по карточкам выдавали какое-то время после войны, до какого года я сейчас не скажу, но я помню это хорошо, как мы, значит, идём в этот самый, отстаиваем там соответствующую очередь и получаем по ленд-лизу, так сказать, там, американский шоколад, американское молоко — суфле сладкое, которое казалось очень вкусным, но это такое время было. И шоколад, я помню как сейчас, значит, лежит там вот на этом самом, на… не на прилавке, а сзади, за прилавком, там стол, там этот самый, там же огромная плитка шоколада, ну вот знаете, такое, так сказать, блок такой вот, вот. И я как на неё смотрю, совершенно, так сказать, так с удивлением, что такое может быть. И помню, как, значит, продавец отрезает от неё такой вот уголочек, значит, ну там, потому что полагалось, естественно. И от карточек, а я их помню, карточки, от них отстригались, значит, там эти самые купончики так ножницами, значит, это соответствующее, что полу… что отоварено, что не отоварено, без дене… просто на деньги было нельзя. Вот этот вот магазин, но ты был прикреплён к какому-то магазину, а не просто так. Я помню, что у нас, значит, были два магазина, в которые мы ходили. Один магазин, он был, ну, он как бы и сейчас существует как магазинное, по-моему, пространство. Он находится на углу Староконюшенного переулка. Это знаете где, это посередине практически Арбата. Вы когда-нибудь в «Постнауке» были? В их конторе.
[Нет.]
Нет? Тогда мне трудно объяснить. В общем, это один из переулков, который на ту же сторону, что и Кривоарбатский, ну, через один после Кривоарбатского. И вот там угловой такой магазин, так сказать, который, дверь которого прямо вот на угол так выходит. Там был вот такой довольно большой по тем временам, конечно, сейчас, по нынешним временам смешной, но в общем да, продовольственный магазин. Это один. А второй, второй магазин, который я тоже помню, как актуальный для нас, он находился на Поварской, по тогдашним временам, площадь… улица Воровского. Этот тоже есть сейчас, это угол Трубняковского переулка, вы знаете Трубняковский, да? Ну вот, он там на углу, там этот дом, он не прямо с угла, а вот прям пройти чуть, два шага, и, так сказать, это. Причём он именно как продовольственный магазин продолжал существовать очень долго, я ещё в ИМЛИ работал, он ещё был продовольственный магазин.
[Там и сейчас есть что-то.]
Там что-то сейчас, по-моему, такое…
[Не продовольственное.]
Не продовольственное и вообще уже другое, но вот это вот этот магазин, вот то туда мы ходили. И кроме того, была молошная. Молошная была на Арбатской площади, угол Большого Афанасьевского, который выходит ну почти что к памятнику Гоголя, и Гоголевского бульвара при самом его начале, вот буквально. Эта молошная тоже до относительно недавних времён была…
[Молочная, что это значит в то время?]
Это значит, что это магазин, в котором продавалось молоко и молочные продукты, творог сметана, вот всё, всё молочное. Это сейчас такого нет действительно.
[Сейчас только молочная кухня есть.]
Нет, нет, молочные магазины. Молочные магазины держались довольно долго. Магазины были, значит, был гастроном, в котором было всё, вот, в котором могли быть, там, отдел молочный, отдел там и так далее. Специализированные были молошные, булошные, в основном вот это главное. Ну, кроме того, бывала бакалея отдельно, бакалейный, бакалейный магазин. Вот, но обычно бакалейный, это был отдел в большом магазине, побольше какой-то магазин. Гастроном, названия «гастроном» удостаивался не всякий магазин, а только там вот какие-то совсем большие, ну вот как на Смоленской площади есть Смоленский гастроном, это наш был главный гастроном, он, по-моему, до сегодняшнего дня живёт в таком виде. Действительно большой, по тем временам, ну там два или три зала, как бы скажем вот тогда было. Это был гастроном. А, скажем, относительно большой магазин, ну, по крайней мере, диетический магазин, там с двумя ответвлениями, вот, он уже гастрономом… не тянул на гастроном, он уже был не гастроном, он был просто магазин.
[Назывались как-то эти магазины между собой?]
Помню, что какой-то был тридцать четвертый, но какой из них, я не помню этого, то ли…
[Вы сказали, что были прикреплены к одному магазину, то есть нельзя было отовариваться в другом по карточкам?]
Нет. Сколько я помню, нет. Сколько я помню, нет. Тогда было так. Ну, это самое детство, на самом деле, понимаете, это я всё-таки застал это уже, вот это, видимо, где-то к сорок восьмому году примерно это, наверное, уже закончилось. Ну, понимаете, я помню и за всю жизнь, наверное, даже в какой-то степени, но в начале в особенности, мне советское, советское, вот, сфера потребления запомнилась главным образом очень коротким, устойчивым и исчислимым ассортиментом товаров. Я помню, что, значит, там скажем, например, но это из более поздних времён, что там было, там масло трёх сортов. Ну, потом их стало увеличиваться, но не значительно. На самом деле, там, так сказать, была водка трёх сортов. Была «Чёрная головка», «Белая головка» и «Столичная», всё. «Чёрная головка» была заклеена коричневым, тёмно-коричневым сургучом, она стоила, ну вот, дореформенных двадцать один двадцать. Зачем я это помню, я не знаю, но вот это так было. Не то чтобы я был каким-то пьяницей, упаси Господь.
[Водка — это такой маркер ценовой политики, она ведь всегда есть.]
Да, да. Водка была «Белая головка», она была, у неё была такая вот, эта до нынешних времён сохранилась это, станиолевая такая обкатка с язычком сбоку. Потом, впоследствии, когда при Хрущёве в пятьдесят шестом году её стали называть то ли Уну, то ли я не помню. В общем, какого-то из деятелей Востока, у которого был головной убор, вот тоже с такой, значит, с этой самой там. По-моему, Уну, я не помню кто. Вот это, кажется, так, да. Ну вот, это была «Белая головка», вот. А дальше шла… Подождите, нет, кажется, «Особая» была ещё, кажется, и «Столичная», вот, кажется, так вот всё-таки. Или «Столичная» и «Особая», сейчас я могу забыть, но, ну, не больше четырёх уж во всяком случае. Я могу перечислить все сорта сигарет, которые существовали десятилетиями, не меняясь, в общем. Но тем благо, что я курил всё-таки на протяжении там пятидесяти лет, видимо, и перекурил довольно много чего. Ну вот, этот самый, была, значит, вот туда, водка была, была, значит, эта самая там, сыр там, ну, тоже, ну четыре, ну пять сортов: ну, Ярославский, Пошехонский…
[Это сразу после войны?]
Вы знаете, после войны мне трудно сказать, я боюсь, что и того-то особенно [нрзб.] [усмехается].
[Татьяна Михайловна Николаева рассказывала…]
Ну, она лучше, она старше меня, она может помнить это лучше меня.
[Она, видимо, немного в другом социальном слое.]
Она в богатом социальном… она генеральская дочка была, поэтому у неё было немножко другое.
[У ней на Киевском пятикомнатная квартира, и она вспоминает, что послевоенная Москва, она была так роскошно богата, как она не помнит никогда. То есть там какая-то домработница её матери приносила чёрную осетровую икру.]
С икрой было всё в порядке, за вычетом того, что у большинства населения не было денег на то, чтобы её купить. А, так сказать, а так вообще она была. Вот стояли это огромные эти самые банки с чёрной икрой, я их прекрасно помню, по магазинам там они были, действительно были. Нет, ну, Таня просто, она действительно из богатой, богатой семьи, и понятно, что оптика у ребёнка совсем другая была. Вот это из пятикомнатной квартиры, а не одна комната в пятикомнатной коммуналке и так сказать, там, и так далее. Товары были, ну, я бы не назвал это изобилием, потому что было довольно однообразно и ассортимент был очень скудный, но в каких-то отношениях, да нет, во всех отношениях было очень бедно. Икра была, что называется, простому гражданину ровно так же недоступна, как и сегодня. Она была лучшего качества, конечно. Ну, это ещё бы, это, как говорится, дохимический период, вообще говоря, когда ещё продукты были натуральными. Понятно, что вот, значит, этот самый магазин, который назывался, который был наискосок от диетического магазина, по другую сторону Киевского… по другую сторону Арбата, который назывался, на самом деле, «Консервы», очень такое название у него было. Названия были все очень казённые, всякое вот такое, так сказать, они были номенклатурные, они не… ничего, никакой поэзии. Вот, а, но, видимо, какая-то было у неё, довоенное, а, возможно, и очень давнее, довоенное название «Восточные сладости». Оно сохранялось в быту, и магазин называли только «Восточные сладости», и на этот самый, значит, там и так далее. И вот там было, это тоже был магазин, вообще тогда вот, это часто довольно, не то, что часто, ну, я помню несколько таких магазинов, которые, дверь которого выходила на угол, срезанный угол, так, и ух… в две стороны, так сказать, так уходил и два, две галереи, ну, два зала таких-то. Внутренняя часть обычно была, значит, собственно, прилавки, а внешняя часть — витрины. Это, в общем, такая, обычная такая вот. Ну ещё где-то кассы помещались. Вообще говоря, то, что сейчас, вот как-то уже не очень помнится.
[Это ушло в двухтысячных, последние магазины были.]
Это… последние, да, но, вообще говоря, так сказать, тогда это же, ведь, вы, значит, вы в очереди к продавцу, он вам взвешивает триста грамм колбасы и…
[Говорит, либо на бумажке пишет.]
Либо на бумажке, либо вы запоминаете. Он откладывает эту самую колбасу туда, вы идёте в кассу, стоите в очереди в кассу, выбиваете эту сумму, приходите к продавцу, стоите опять в очереди, потому что черта с два вас кто пустит без очереди. И значит, это самое, потом, да значит, получаете это. На небольшую покупку уходили, в общем, там, в пределах часа по крайней мере. Это всё, это серьёзно. Очереди всегда и везде.
[Причём и разные отделы были.]
Да в разные отделы, причём, не всякая касса выбивает в одни… Эта касса — молочного отдела, а эта касса — хлебного отдела, значит, постоишь и туда, и туда. А аптека, это был ужас. В аптеке сидели, в аптеке сидели старушки-провизорши, которые, вообще говоря, их темп был темп до семнадцатого года, вот просто, там, и так далее. И поэтому они, значит, вот там, значит, такие, ну такие божие одуванчики в пенсне, беленькие такие, ну очень колоритные, конечно, и так далее. И вот, значит, а тогда ещё, это то, что современные врачи, вот как мой врач, говорит, что «мы этого не умеем, говорит, нас этому даже не учили». Составление лекарств, вот вы знаете, рецепт, в который, так сказать, там, входит, там, я не знаю, там, там столько-то валерьянки, столько-то, там, того-то, столько-то того-то, там это. Ну такая простыночка небольшая. И вот всё это провизор подсчитывает. Ну вот, потом, значит, там, выписывает, там пять каких-то квитанций, клеит это всё, поэтому рецепты были картон… до толщины картона уклеивались в этими вот, потому что их отдираешь, но всё-таки что-то на нём остаётся. Старый, использованный рецепт, он был очень такой, серьёзный. Старые рецепты, кстати, так сказать, никто особенно не преследовал. Ну, идеи в том, что вот что-то такое там серьёзное, наркотическое, вообще не существовало ещё. Ну вот, ну, возможно были где-то там… лекарства шкафа, А, так называемого, то есть, так сказать, такое, сильнодействующее, ядовитое. Видимо, их там как-то отдельно, но я такие не помню. И вот, значит, там, там, вот надо было с этим, значит, пойти в кассу, потом отнести это назад к этой провизорше, там, и так далее. Но это всё очень медленно. А может быть, оставить в кассе и тебе отрывали квиточек, по которому ты потом приходил получать, когда это будет готово. Получать в другом окне, к счастью, это хорошо, если в другом окне, тогда это быстрее немножко. Вот. А когда получали, значит, эти самые, готовые, готовые… изготовленные вещи, стояли на такой, на полочках такой круглой вертящейся этажерки, что ли, вот так это самое, которую вот так, значит, прокручивали и там, значит, там цифры на ней стояли, и вот в соответствующих ячейках этих, таких треугольных, значит, там были в соответствии с этими цифрами. Ну и дальше там по фамилии уже. А что касается, значит, да, так вот, этот магазин «Восточные сладости», в нём было замечательно. В нём пахло двумя вещами: молотым кофе и фруктовыми соками. Это был смешанный запах, за который туда можно было ходить и находится там, там, можно было даже ничего не это самое. Ну, что такое запах хорошего смолотого кофе, сами понимаете, и там, значит, там мололи кофе. Ты покупал в зёрнах кофе и говорили «смолоть». И она высыпала это, значит, в большую такую мельницу вертикальную, нажимала на какую-то кнопку, и это мололось электрически, так сказать, всыпаясь в маленький пакетик внизу, который тебе потом заворачивали. То есть, это запах стоял пряный такой по всей этой штуке. А вот на самое углу, напротив двери продавались соки, а соки продавались в таких стеклянных сифонах. Они были расширившиеся… широкие наверху и сужающиеся конусом книзу, и кончающиеся крантиком. Они вкладывались в такой штатив, ну вот с такими лапками как бы там, понимаете, вот, значит, которые книзу были меньше, а выше — шире. Вот их, значит, вставляли, и, значит, наливалось, это самое, наливался сок. А они, вот я помню, что два способа получения заполненного сифона. Один простой: когда трёхлитровая банка, которая, по-моему, до сих пор ещё где-то существует, там, с соком открывалась и выливалась в этот сифон. Это один. А второй был совершенно замечательный. Когда, значит, эти самые наполненные сифоны выезжали каким-то подъёмником из какой-то бездны снизу, из какого-то, значит, сзади там была какая-то ниша, и вот, значит, там нажималась кнопка и оттуда, вот значит, выезжал этот самый сифон, а этот снимался, а пустой вставлялся. И он, значит, уезжал, там его, видимо… там его, видимо, мыли и заливали что-то новое. Соки были замечательно вкусными. Ну, доступен, самый доступный, самый расхожий — томатный, естественно. Как бы, так сказать, там, ещё более дешёвый, по-моему, абрикосовый. Да, абрикосовый, вот, и вкусный, тоже вку… Вообще, соки были замечательно вкусными, потому что это были натуральные, отжатые действительно соки, без дураков, так сказать. Не растворённые порошок, там, ни чего-нибудь, а соки как соки, вот настоящие. Ну вот. Что абсолютно, ещё кое-что можно найти, ну, томатный сок, он в какой-то степени сохранил себя. Вот что исчезло полностью, вот надо сказать, это вишнёвый сок. Замечательно вкусный вишнёвый сок, душистый, вот такой, знаете, что называется, на губах оставлявший следы, такой тёмный, такой вот, значит, это самое, густой. Но густой он без мякоти, он такой был, вот как-то такой фактуры такой и удивительно душистый, замечательно вкусный. Но я помню, и вишня была хорошая. Мичуринец, вот в котором мы жили, это был посёлок садоводов, что легко догадаться по названию. И там были хорошие ягоды, и вишня была прекрасная, сладкая, не кислая. Спелая вишня — это… это прекрасно. Но потом случилось то, что, во-первых, кажется, вымерзла практически в какую-то плохую зиму, как, ну есть вещи, которые легче восстанавливаются, там, яблони легче. Вишни просто все намертво, так сказать, там погибли. Ну, крыжовнику и смородине, им ничего. Поэтому там вот так вот, вот. Да, так вот, значит, этот самый, такие, такие магазины, да. Но, между прочим, для того, чтобы этот стакан сока купить, надо было тоже в кассе постоять и выбить стакан соку и с чеком подойти.
Уличная торговля
Деньги в к… Другое дело — уличные. Но уличные, на улице соками не торговали, на улице торговали газировкой с красным сиропом, который, Бог ведает, вишнёвый, наверное, он был как раз. Он тоже был довольно вкусный. И он был, там, это был такой агрегат, как вам сказать, такая железная тумба на колёсах, крашеная, голубая, по-моему, с тентом наверху на каких-то штырях таких, значит, натянутым наверху, от солнца, от дождя. Вот, значит, это женщина была всегда, мужчины там не торговали. Причем, значит, стул был жёстко приделан к этой самой, то есть, она, как б сидела на нём, но он не ехал сам, его, естественно, привозили, но тем не менее она была вот как бы, так сказать, вот, этот стул был, вставлял…
[Она была при нём.]
Да, вот. И там было, там было [вспоминает] и там было два обычно, этих два таких сифона и… с одним и тем же сиропом, это было без ба\ловства, конечно, всякого, и газированная вода, которая газировалась вот в этой самой тумбе, а набиралась она из соседнего какого-нибудь там крана, ну, как бы сказать, где проходила водопроводная труба и был вентиль, так сказать, к которому можно было подсоединиться резиновой кишкой, что и делалось. А другая часть, из другой резиновой кишки, сливалось в слив, в решётку, туда, значит, когда мылись стаканы. Стакан мылся на специальной такой штуке, на которую надо было, стакан перевернув, нажать, и тогда изнутри там, это самое, это видели, да?
[Да, как раз в фильме «Подкидыш».]
И это, ну, это такая, такая часть быта, вообще, эта газированная, вот эти вот, газировка, и появление автоматов газированной воды было шоком. Как это так? Вот, без тётки, вот, без всякой. Причём, я помню, мы ехали на юг в какой-то год, ну, это, наверное, какое-то, какие-то пятидесятые годы, и мы, я помню сцену где-то, ну, поезд ехал долго, ну, вот через Украину проезжая, там, где-то такое, когда уже на юге, но ещё по Украине, видимо, где-нибудь, там, южнее Харькова где-нибудь, я не знаю, Запорожье, я не помню где. Он, значит, это самое, там сидела женщина^ продавала газированную воду, и у неё вот эти вот краны, где сироп, были совершенно, на них гроздьями висели пчёлы или осы, по-моему, пчёлы. И вокруг неё вот так вот, вот, летали, на которые она не обращала никакого внимания. И когда, значит, к ней подходили, значит, это самое, значит, там вот стаканчик, она рукой снимала этих пчёл, наливала, значит, потом они залепляли опять. И у неё кто-то спрашивает: «А как же вы? Они вас не кусают?» — «Так ж я кормилица!» [Смеётся.] Да, вот это и мороженое, конечно, тоже. Мороженое ещё было, так сказать, такое вот, было такое, ну, довольно стационарное. Ну, то есть как стационарное, они перемещались всё-таки, там у них не было связи с водопроводной трубой, со стоком, там, и прочее, там были только, в их коробке там лежали, эти самые, куски углекислоты, которые, сухого льда, который, значит, обеспечивал эту, так сказать, замороженность мороженого. Мороженое, кстати сказать, тоже было, там, трёх или четырёх сортов тоже.
[Пломбир, эскимо…]
Пломбир, эскимо, это всё в обёртках, такие, расфасованные, потому что, там, в кафе-мороженое, это немножко позже ещё там. Вы знаете, много чего сразу после войны не было, много чего. Например, как правило, не работали лифты в домах. В нашем доме лифт начал работать, я помню, как он начал. Я помню, что этот лифт [нрзб. — 01:31:04,569] шестого этажа. Ну, там, правда такие, очень пологие лестницы, но высоко. И помню, как мы ходили с мамой к Ивинским и, значит, вот я не помню, была ли она уже в заключении или ещё была, это до первого ареста, и хорошо помню, что ходили пешком. Они тоже жили на шестом этаже, ну, несколько более скромного дома, там была у них отдельная маленькая квартирка в Потаповском переулке. Я очень хорошо запомнил, как мы, поднимаясь на уровне второго этажа, мы встретили Бориса Леонидовича Пастернака. И она, значит, и они с мамой остановились, они разговаривают, а я смотрю на него, а там, этот самый, значит, окно выходит над подъездом первого этажа, на самом деле, видимо, чёрным ходом, а может быть, наоборот и подъездом, и на нём красный плакат, который, значит, это самое, видимо, что-нибудь «Все на выборы» или что-нибудь вот там, наверное, или, там, какой-нибудь красный уголок, в котором происходит такая, агитпункт, наверное, так, потому что избирательные пункты всегда в школах были, а это, значит, вот это самое. И из-за этого красного плаката Борис Леонидович стоит освещённый красным светом, причем так контрастно, и он ещё молодой дово… ну, как сказать, там, молодой, конечно, не шибко молодой, но всё-таки, это значит, соответственно, это конец сороковых годов, значит, ему, сколько там? Ему так что ли пятидесяти…
[Сорок ему, наверное, было.]
Ну, не… около, нет, за пятьдесят всё-таки. Он девяностого года, значит, это. Вот.
[А это был какой год?]
Ну, это какой-то сорок восьмой, примерно так вот, вот да. И потом, впоследствии, он мне вот… таким вспоминался по очень известному портрету Яра-Кравченко, который был помещён в книжке «Сестра моя жизнь» тридцатых годов, но там не только «Сестра моя жизнь», там это целый сборник. Он был как раз на книжной полке у Веры Николаевны. Я тогда впервые прочитал вот это самое, что-то оттуда, по-моему, вот «Приходил по ночам / В синеве ледника от Тамары…» и вот как-то был ушиблен этим всем делом.
Лифты в домах, лифтеры, керогаз, гигиенические практики
Да, так вот, это самое, это тоже воспоминание, почему я вспомнил об этом, потому что я помню, когда у них пустили лифты, как изменилась жизнь сразу, что значит. Шестой этаж. И, кстати сказать, у них был интересный звонок, у них не было и так до конца не было электрического звонка почему-то, а сохранялся в двери такой, ключик такой, который надо было резко повернуть, и он, значит там, ну, прокручивался в колокольчике внутри и, значит, звонил вот так вот, вот это. Ну, квартирка была маленькая, так что всё было слышно. И вот я помню это, а у нас, в Кривоарбатском, у нас пустили, значит, этот самый, у нас лифт пустили раньше, но вне… и этот лифт был. Дом-то был очень хороший, красивый, а огромные проёмы вот эти между лестницами, огромный проём, и между ними, значит была эта самая шахта. Но она была не закрытая, она была, это была решётка из плетёной, плетёной проволоки такой вот, решётка, и кабина в ней ездила, значит, соответственно, вот. И кабина эта была, она была, в ней был диванчик, зеркало, цветные стёкла и какие-то, из хорошего дерева дверцы. Уж зачем там? Поднимаешься ты минуту там, я не знаю, но тем не менее. И причём зеркало было за спиной этого самого диванчика, если ты садишься, то ты садишься спиной к зеркалу. Но это было, всё-таки, так сказать, так как-то интересно. Но была лифтёрша, сборни… этот самый, она вызывала лифт и впускала или не впускала. И нашего брата она старалась: «Ничего, молодой, так дойдёшь», вот, и особенно не впускала. Ну, вниз-то, о том, чтобы вниз ехать на лифте, об этом разговоров не было ни у кого. А вот чтобы наверх подняться, нам эту, по-моему, тётю Катю, кажется, очень просить надо было, [нрзб. — 01:36:03,495].
[По какому принципу она впускала?]
Ну, взрослых людей пускала, естественно там и так далее. А вот мелюзгу, так сказать, так как-то ты из школы идёшь, Господи, портфель тяжёлый, там вообще… И она, значит, это самое, и там я, как я помню, там был, собственно, отверстие для ключа, но за отверстием была просто кнопка утопленная, и поэтому, в общем, ключ никак, ключ не работал, она просто тыкала туда, и он открывался. На самом деле, можно было бы и так открыть, но, поскольку она сидит.
[Она рядом сидела или у неё коморка была?]
По-моему, по-моему, был… нет, каморки никакой не было, это консьержки, там это позднее появились, так сказать, в это время не было. Она сидела рядом, она сидела рядом, видимо, у неё был какой-то стул. Вот мне так представляется, но это я, за это не поручусь, потому что, может быть, это какие-то кинематографические наложения, что она вязала чего-то. Вязанием занимались много и вот большой клубок, длинные спицы, какая-то сумка. А что ей делать было, в общем, так особенно? Женщины были простые, как правило, как я вот помню этих самых там нянечек у себя вот в школе, там, тётю Грушу нашу, со звонком тоже с таким. Тётя Груша была свирепая, она дралась. А этот самый, да, и вот эта вот лифтёрша. Так вот, лифты пустили и это была новость, а потом газа не было, на кухне стояли керосинки, примусы, керогазы. Керогазы, знаете, что такое, нет? Стишок такой был: «Нам не страшен керогаз, есть у нас противогаз». Керогаз — это как бы такой усовершенствованный, очень большой примус. А примус знаете? Ну, у примуса конфорка круглая, маленькая и, это самое, значит, там вот её нижний резервуар, в котором конденсируются эти пары, так сказать, когда их там, увеличиваешь давление. А керогаз — это целый агрегат, вот такой вот, вот, в котором принцип тот же самый, но там вот, как бы, целый вот такой, ну, вот горелки, вот знаете, как в духовках у нас, такие. Как духовка. Там можно было поставить кастрюль на него там и так далее. Керогаз — это такая, серьёзная штука. Ну, пахли все они, конечно. А газовые плиты стояли, но ничего в них не это самое, ничего из них не шло. А потом пустили газ. Я помню, как это пустили газ, и оттуда, из этих газовых труб попёрли тараканы в каком-то кошмарном количестве, потому что я помню, как они, вылезая, они скидывали конфорки своей…
[Напором.]
Напором, их столько там, их было так, это самое. Потом, как запустили ванну, ну, в ванной только что капусту не квасили, там вообще же, в квартире, в которой живёт, там я не знаю, двенадцать семей, там мыться брезговали просто даже. Ну, мылись, хотя впрочем, ну, как, я помню эту вот ванну так, что в ней мылись как, ну как сказать, там, приносили доску, ставили таз, наливали горячей воды и мылись просто вот так вот, вот, поскольку то, что, там… А потом вот поставили газовую колонку, но что-то я не помню, чтобы мы ей пользовались. Может быть, и пользовались… нет, нет, пользовались, конечно, пользовались, пользовались, да. Так что это вот после войны, вот это всё появлялось постепенно, сначала этого не было, не было газа.
[Мылись в бане, получается?]
Нет, мылись в тазиках, в тазиках в комнате.
[А баня как идея была?]
Нет, баня была поздней. Вот и это, на самом деле, в баню ходили люди, естественно, но нет, но у нас тут, понимаете, здесь в чём, так сказать, в чём история. Мы… в моём случае, семья из двух женщин и один маленький мальчик, который всё-таки растёт понемножку. Мать, я думаю, мать брезговала баней, бабушка, ну, тем более вообще. А меня одного, понятно, что, так сказать, в баню всё-таки было как-то некомфортно пускать, там и так далее. А вот когда мы переехали на, значит, когда мы переехали на Гоголевский бульвар, вот, во вторую, там никакой, никакой ванны не было вообще, и там мы начали через какое-то время ходить, ну, подростками уже, с одним из маминых учеников, другим, там это самое, вот, ну как бы полуприятель Гринкин [нрзб.], Глеб Семёнов такой. Стал впоследствии сотрудником МИДа с французским языком. Не знаю, где он сейчас, жив ли вообще. Так вот, Глеб, мать поверяла, значит, это самое, выдавала нам, значит, это, на, в общем, мы ходили в Высший разряд, но не в кабинет, естественно, а в баню, но с бассейном. Вот, это отдельное мероприятие, либо в Сандуновские, либо, чаще, в Центральные бани, и бассейн-то этот, смешно сказать, это круглое такое, это большая круглая ванна, так скажем, но всё равно.
[Центральные бани это где?]
Ой, они где-то там же, я не помню, это было, это где-то в районе Неглинной, там вот, в центре, действительно, но я не помню сейчас точно. Глеб был из очень бедной семьи. Мы, как раз в это время у матери там вышло книжка одна, потом книжка другая, и деньги какие-то были, даже мать взяла домработницу. В общем, как-то стало немножко легче. И мыться в тазике. Как мылись? Ставился стул и два таза. Один таз на стул, другой таз под ноги. Кто-то поливал сверху. Вот и всё. Так сказать, такая немудрёная техника. В Переделкине на даче ровно то же самое, там вообще идеи бани не было и ванн никаких, естественно, не существовало.
Уличная торговля
[Чем ещё торговали на улицах, по вашим воспоминаниям?]
Вы знаете, по моим воспоминаниям, пожалуй, больше ничем.
[Не продавали пирожки?]
Вот что-то нет, нет. Вы знаете, был, был один или два там, сколько-то там разрешённых дней в году, когда… это были праздники: Первое мая, Седьмое ноября, точно они, может быть, ещё что-нибудь, когда частнику, в основном артельщику, разрешали торговать на улице. Два дня в году. Значит, и в основном торговали, продавали разного рода, тоже очень узкая номенклатура, так сказать, увеселения. По-моему, пирожки были там, но хотя я не уверен. А что продавали? Продавали такую, значит, игрушку, тёщин язык. Это такая, значит, такая вот бумажная кишка, которая, когда в неё дуешь, она раскрывается, когда, значит, не дуешь, она сворачивается спиралью, так это самое, вот. Это раз. Во-вторых, штука, которая называлась «уйди-уйди». Это, значит, такая на сургучной, сургучной головке конский, петля из конского волоса, на ней какое-то грузило, а сургучная головка на палке. И когда вот раскручиваешь, она издаёт такой характерный такой звук, такой, модулирующий слегка, так сказать, там, вот это «уйди-уйди». Потом, значит, шарики со свистулькой, то есть, значит, надуешь шарик, а, значит, когда воздух выходит, оно свистит, а когда вот так вот можно было там зажимать и открывать, тут, значит, даже что-то, ну, что-то. Вот это. Что-то ещё, наверное, было. [Вспоминает.] А, мячики, набитые опилками, обёрнутые гофрированной и серебряной бумагой, на резинке, так что вот их можно было вот так вот, вот, так сказать, это самое, вот это. Калейдоскоп. Всё это изготовления ручные, естественно, изготовления, вот, как бы таких, видимо, каких-то артелей, таких вот, которые этим занимались. Но торговали они два раза в году, что они делали в остальной год, я не знаю, просто потому что, значит, вот. Пирожки, в принципе, продавались. Я что-то не помню, вот, по самому раннему детству я не помню вот уличный какой-нибудь ящик с пирожками. Я помню, как меня умилило, когда мы первый раз поехали на юг, в Коктебель. Это было, это был, видимо, пятьдесят четвёртый год. Вот, пятьдесят четвёртый год. И я помню, что вот это, то, что на станциях продаются, приносят люди что-то, что они сами приготовили, испекли и горячее, в вёдрах там каких-то и так далее. На меня произвело сильнейшее впечатление, едва ли не больше, чем море и вообще всё остальное, там вот, как бы так скажем. Нет, море, конечно, произвело, но, в общем, вот. Нет, море у меня было разочарование. Почему? Потому что мать по какой-то старой памяти говорила, у неё был, ей запомнился въезд, очевидно, от Симферополя, и внезапно открывающийся вид на море, когда проезжаешь через Байдарские ворота. А в Коктебель, это, значит, надо было ехать до Феодосии, и он шёл через все эти места, там, через Мариуполь там и так далее, он проходил, значит, краем таким вот, восточным краем Крыма и долго там, постепенно море где-то начинало обозначаться, ты ближе, ближе, ближе, довольно скучно.
[Лиманы тянулись туда.]
Да, да, да, и потом, значит, постепенно подъезжал к, собственно, это же самый край Крымского хребта-то, собственно. И поэтому, так сказать, так как-то, вот это было некоторое разочарование, хотя потом Коктебель я полюбил необыкновенно. На протяжении какого-то времени, ну, после последней поездки в начале девяностых, я понял, что я никогда больше в Крым не поеду, а что, во что там это всё превратилось. Потому что, когда мы были в Крыму вот в пятьдесят четвёртом, мы ещё ходили к Марье Степановне Волошиной, ещё, так сказать, у неё ещё это был не официальный музей, а просто вот она на дому у себя рассказывала про него, про дом поэтам, про этих всех людей, которые там бывали ещё, всё это ещё жило. Ну, память жила.