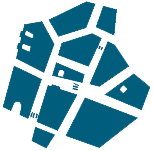Выбор темы для разговора. Работа после школы. Поступление в университет. Школьный досуг
[Про университет, Сергей Юрьевич, да? Т.е. про… вот сразу после окончания школы. Т.е., ну, во-первых, интересны сами вступительные испытания, да, которые были. Во-вторых, выбор: почему именно этот факультет? Ну, и, собственно, самое интересное в этом – это фольклорный семинар.]
Ну, так биографически очень получается.
[Ну, мы же с вами так и идем, на самом деле, потихонечку выхватывая огромные куски не из биографии, по бокам – наверное, это правильно.]
Ну ладно.
[Ну, т.е. вы можете выбрать сами.]
Да, да, конечно. Нет, вы знаете, я бы, может быть… там вот, вот есть… У меня есть такой период жизни – до университета и после школы – это… Я в университет поступил через два года после школы. Я работал. Но это отдельная история, довольно тоже, так сказать, любопытная.
[Вы немножко про нее начали рассказывать, может быть, и вот с этого начать?]
Да, вот, электромехаником связи, так ска[зать], я работал. Вот, это отдельная история. И даже дело не в… понятно, не в производственном плане, а вот в человеческом таком, культурном – там довольно много чего есть любопытного в этом. Вот. Университет частично на это накладывается, я же немного учился, я продолжал работать и учился. Это вторая вещь. Но мне хотелось, – т.е. это можно не сейчас, это как вы сочтете нужным, – я хотел немножко тоже рассказать о времяпрепровождении вот еще до всего этого; оно поздне-школьное, оно частично и совпадает с этим.
Танцы как форма времяпрепровождения. Танцплощадки (танцверанды, пятачки и др.). Танцевальный и песенный репертуар. Звуковоспроизводящие устройства (патефон, радиола, проигрыватель и др). Общение молодежи, молодежные компании
Я хотел немножко рассказать о танцплощадках.
[Отлично.]
Потому что это кажется вещь, которая ушла совсем, она заменилась на дискотеку, которое совсем другое, вообще говоря. А танцплощадка это вообще отдельная такая форма такой молодежной культуры.
[Именно молодежной?]
Да, исключительно молодежной. И, собственно говоря, первый опыт у нас, – про него я рассказывал, – так сказать, танцевальный опыт у нас был в [19]53 году, когда мы были еще такие шкеты, там, по 12 лет. Вот, я рассказывал про своего приятеля Сашу Кармена, значит, вот с которым мы жили, там, на даче вместе, в Зеленоградской, и напротив была у нас… напротив нашей… нашего дома был дом с большой, большой террасой, открытой, вполне с электрическим освещением, и там был патефон. Этот патефон и пластинки. И вот мы, значит, крутили эти пластинки и там науч… учились танцевать. Наши дамы, которые, часто на голову выше были нас, – с кавалерами там был некоторый дефицит, ну, так сложилось – вот, поэтому мы шли в дело, поскольку других не находилось. Потому что даже наши, так сказать, девицы, которые были почти нашими ровесницами, они все равно были крупнее, и… мы были мелковатые такие. Ну, что сказать, двенадцатилетние. И, значит, там вот учили мы два танца. Надо сказать, что это было на протяжении многих-многих лет, это были главные танцы, которые, в общем, везде существовали. Это было танго и фокстрот. Практически исключительно они. Конечно, это умение танцевать было в высшей степени относительным – этак, что-то доведенное до полной примитивности и полной такой элементарности: два шага вбок, один вперед – вот что-то такого типа.
[А где учились, или кто учил?]
Девчонки нас учили.
[А они…?]
А где они учились? Их кто-то научил. Нет, никаких даже идей, никаких…; в танцклассах могли учить, так сказать, бальным танцам только. Никакие танго и фокстроты… они были, ну, не то, что под запретом, но, во всяком случае, они относились, ну вот к этой самой низовой такой культуре, которая не приветствовалась культурой официальной и, конечно, была… ну, не то, чтоб… не то, чтобы она преследовалась, но, во всяком случае, она никак не поощрялась. А в школах таких… там учили… там учили какой-нибудь, я не знаю, ну, полька, падекатр, которые никто не танцевал, понятным образом. В лучшем случае, вальс. Вот вальс, пожалуй, был тот танец, который признавался и там, и там. Но вальс – танец несколько более трудный, и поэтому его осваивали не все. Кроме того, надо было быть стойким в смысле головокружения, потому что, в общем, это действительно, так сказать, вполне вызывало головокружение. Так вот, значит, это были наши первые уроки, которые вот так… вот это я запомнил. Но, вообще говоря, собираться, чтоб потанцевать – это было действительно такое вполне принятое времяпрепровождение молодежи. Там было два, в основном… причем, я не очень уверен, что они обязательно совмещались, т.е. обычно – или, или: собирались, чтоб потанцевать, и собирались, чтоб попеть. Пели много, надо сказать, несопоставимо больше, чем впоследствии.
[Под пианино, под гитару?]
Ну, это как сложится. Пели… Конечно, самый распространенный инструмент был гитара, просто наиболее доступный, гитары были дёшевы, так вот просто элементарно бренчать умели все практически, поэтому… Ну, в каких-то более интеллигентных домах это вполне могло быть и под пианино, да, конечно. А еще одна… один аккомпанемент, – ну, он уже как бы не для закрытых помещений, – это, конечно, это еще был аккордеон. Это тоже бывало. Но уже игра на аккордеоне требовала несколько большей квалификации, специализации и т.д. Это было что-то пришедшее, видимо, откуда-то из таких вот…. какая-то непрерывная, наверное, традиция из либо рабочих кварталов, либо каких-то, так сказать… Я не думаю, что это… там, в этом что-то было французское, хотя, вообще говоря, инструмент-то, вообще говоря, оттуда. И так вполне, так сказать, так с этим сопрягается. Но у нас, там, сначала гармошка, баян, – так сказать, вполне они… это было вполне таким инструментом скорее либо деревенским, либо… гармонист, который на деревне, там он центр, в каком-то смысле, внимания, потому что он обеспечивает музыку. И, кстати сказать, бывали танцы под гармонь, потому что, в общем, единственная музыка на протяжении долгого времени, – громкая, ритмичная, с этими вздохами такими, так сказать, – она была… обеспечивалась гармонистом. И гармонист был первый парень на деревне, гармонист был, так сказать… он ценился и т.д. Для города фигура гармониста была малохарактерной: он, так сказать… это всё-таки… это, пожалуй, скорее, не черта городского быта, потому что для города было важно, чтобы то, что происходит, происходило не только [на улице] или вообще даже не на улице. Ну, о песнях вообще отдельно. Пели… собирались компании в подъездах (ну, это не те подъезды, как у нас сейчас в новых вот этих домах последних… последних десятилетий). Ну, эти старые дома, там подъезд был – это целый, понимаете, дворец, вообще говоря, пространство большое и т.д. И так, рассевшись на лестнице, или, там, еще где-то, компания, значит, так сказать, с гитарой… и в подворотнях, и во дворах и т.д. Но и дома это могло быть, если было где. Я говорил уже, что квартиры-то были коммунальные, в основном, и, соответственно, можно было [нрзб. 00:14:06,131], либо – когда поздно вечером, когда все соседи разойдутся – на кухне, скажем, это вполне у нас так было возможно, но соседи не очень любили, когда на кухне шумели, поскольку спать хочется. Так что так. Так вот. А что касается, значит, этих самых… Танцы – они были такого рода: были временные и были постоянные. Постоянные назывались танцверанда. Это были специальные платные такие площадки, огороженные, но на которых тоже обычно, по моему воспоминанию, обычно играла радиола всё-таки. Т.е., вот, пластинка и пластинка, и… Знаете, что такое радиола, да? Ну, это как бы, вот, знаете, такой старый приемник, такой деревянный, а сверху у него диск для патефо… для грампластинки. И там крышка так поднимается, и там ставится пластинка, а усилительная система и акустическая используется самого этого приемника. Т.е. вот это вот называлось радиола. Был патефон; граммофон к моему времени давно отошел уже, а патефон был еще в активном употреблении в [19]40-е годы и в начале [19]50-х. На смену ему стал приходить проигрыватель. Проигрыватель – это такая штука в пластмассовом ящике, где мотор-пружина был заменен на электрический, и мембрана такая из фольги, металлическая, которая, собственно, и воспроизводила звук путем передачи через иглу колебаний прямо на нее, усиливалось через эту самую трубку. И сам звук был несколько металлический, хотя, на самом деле, он был лучше, чем можно себе представить. Конечно, немножко дребезжащий, немножко металлический, но, тем не менее, все-таки это было какое-то звуковоспроизведение. Естественно, когда ослабевала пружина, если он был плохо заведен, он съезжал на басы, так, начинал играть медленнее и т.д. Иголки стачивались, иголки надо было менять. В патефоне, у него сбоку была такая… выдвигалась, так сказать, на штырьке такая коробочка, в которую складывались эти самые иголки. И вот эти самые иголки настоя… ну, иголки, ну, толстые, короткие, сильно заостренные, (как я представлю себе, как жалко было эти пластинки), довольно тяжелый адаптер вот этот самый, с мембраной, – у него, значит… вот он прокручивается, – и держались ведь эти пластинки, подолгу держались. Они, эти иголки, они стачивались, и звук становился плохим. Иголки, естественно, продавались в магазинах соответствующих, а когда вдруг не хватало иголок – чё мы только туда не запихивали: и швейные, которые, конечно, гнулись и ломались, они слишком тонкие были и давали писклявый скверный звук, потому что от толщины иголки зависел[а] немножко, так сказать, высота звука. Или интенсивность – даже сейчас не умею сказать. А иногда даже мы затачивали какую-то хорошую крепкую спичку, так сказать, и тоже заталкивали – ненадолго хватало, но, в общем, тем не менее. Поскольку передача-то была чисто механическая, понимаете, на эту самую, на мембрану. Т.е. иголка вставлялась в такой держатель, завинчивалась винтиком, а он передавался, так сказать… он соединялся с центром натянутой мембраны, и, соответственно, его колебания… они, соответственно, передавались на мембрану, собственно, что и давало звук. Вот это устройство. Устройство граммофона также же, просто там труба, которая… которую в патефоне убрали внутрь ящика, вот, собственно говоря, и всё. Это такое конструктивное изменение, но принцип один и тот же. А это пружина. Скорость была одна, естественно, – 78 оборотов. Долгоиграющие пластинки появились тогда, когда появился электрический мотор, и то не сразу.
[И там было две, по-моему, скорости, да, или…? Нет, две.]
Две, потом третья, т.е. здесь 78 и 33, это долгоиграющий [нрзб. 00:18:32,913], так сказать, когда [в] одну пластинку можно было уложить больш[ий] объем записи, ну вот, как сейчас, большая пластинка-гигант играет 40 минут: 20 минут одна сторона, 20 минут другая. А такую пластинку, обычную, старую… такую пластинку, ну, он проигрывал за две-три минуты, вообще говоря, одна сторона, не больше… а то и меньше. Еще были маленькие пластинки, миньоны и т.д. Еще были пластинки на студенческих костях, и еще были, так сказать, разные…
[На рентгене?]
Да, на рентгене. Были домашние… Были какие-то левые студии где-то в курортных местах типа Сухума и т.д., где отпечатывались такие всякие, ну, я бы сказал… ну, такие романсы, вот которые мы изучаем [смеется], я бы сказал так, в этом роде. Вот такие, не блатные, нет, ну, так…
«И тогда здесь в Херсоне,
В нашем маленьком доме
Будет много веселья,
Будет много вина».
Вот такого типа.
«Я хочу, чтобы ты…. что…
И горячей любовью согревала меня».
Вот, тут, это такого типа текст – это сухумское производство, потому что помню, что купил в Сухуме. Ну, курортное, вот скажем так. Значит, да, патефон. Потом проигрыватель. Проигрыватель был устройством без, так сказать… во-первых у [него] заменился мотор, и во-вторых, заменился звукосниматель, который там был вместо этой самой иглы. Т.е. игла была еще, но там был пьезоэлемент, сжатие и расширение которого от этой вибрации на этом самом давала изменение силы тока, который… ну, слабенького тока, который туда, так сказать… да, тока, все-таки, да. Электрические колебания, вот так скажем, так, так сказать точнее всего. Они передавались… Обычно проигрыватель включался в приемник, потому что мало было крутить пластинку на этом самом, надо было, чтобы этот звук был усилен. Для этого в приемниках были специальные гнезда, и туда включался этот самый из проигрывателя, и через акустическую и усилительную систему приемника происходило усиление… усиление проигрывания этого звука. Радиола – это комбинация того и другого, т.е. как бы проигрыватель, вделанный прямо в приемник таким образом, т.е. это… такой… Потом, когда стали появляться и проигрыватель, и приемник, а еще и магнитофон, бывало, как-то там приспосабливался – это огромные ящики были [нрзб. 00:21:31,686].
[Да, деревянные.]
Да, да, да. Это называлось комбайн. А потом стали появляться, наконец, тоже не сразу… а вот этот самый проигрыватель с усилителем, который потом, впоследствии, это не сразу тоже… так назвали электрофонами. Т.е. вот которые прямо сами… ну, то, что вот тут у меня стоит, но это, конечно, гораздо более поздний продукт. Ну, у него всё внутри и колонки там… Ну вот, это, значит, этот самый… Но это всё позже. Так вот, на этих самых… на этих танцверандах, видимо, стояло что-то вроде радиолы, но эта радиола давала сильный звук, который через рупор такой хороший… Площадка… ну, как сказать… размером, я бы сказал, так, метров… ну, 10 на 10 так, не меньше, довольно большая. Либо была у нее… был либо деревянный настил, либо земляной утоптанный, либо, возможно, асфальтовый, хотя асфальтовый не помню; окружалась она таким забором, и стояла билетная касса и билетер, вот и всё, стоило дешево. Это были танцверанды. Такие веранды были, между прочим, сколько я помню, по-моему, в Парке культуры и отдыха. А может еще и в других парках. Танцы там игрались исключительно танго, фокстрот и вальс, никаких других, собственно, в это время не было. А потом… А кроме того были временные, эти самые, такие места для танцев, которые назывались пятачки. Это могло быть во дворе какого-нибудь дома, для этого было нужно совсем немного. Но поскольку вынести музыку… патефон можно было вынести, и выносили, но он давал тихий звук все-таки, недостаточный. Немногим везло настолько, что был гармонист, который играл тогда уже, так сказать, ничего. Но иногда случалось, что как-то технически изощрялись, вытягивали провод из окна ближайшего какого-то дома и подтягивали к этому самому… к этому месту, и всё происходило так же, только денег платить не надо было, и заборчика не было и т.д. И за городом тоже такое же вполне, так сказать.. в лесочке, там где-нибудь около поселка, так, чуть-чуть отступя, ну, чтоб не мешать людям, поскольку ругаться начинают. Вот такое вот собиралось у нас.
[А на пятачках тоже музыку крутили?]
Тоже музыку крутили. Я говорю, что там была с техникой проблема, потому что…
[Нет, ту же музыку?]
Ту же, ту же. Да, ту же самую. Нет, все те же танго и фокстроты. Нет, когда был гармонист – очень зависели от его репертуара. Ну, конечно, он [играл] что-то танцевальное, т.е. что можно было танцевать. Там, в этом самом… Да, да, так сказать, музыка того же типа, всё… всё примерно то же самое. И я помню, в основном… Нет, я помню, во дворах эти пятачки вполне, так сказать, так вот такие, у нас вот в Арбатских там наших переулках, где мы, собственно говоря, жили и т.д. Но… ничего внятного; такое, конечно, ощущение какое-то тёмного, такого вот, весеннего, уже темного вечера, видимо, довольно позднего времени. Такой, несколько такой, как бы сказать… так сказать, пьянящая такая атмосфера, воздух такой как бы, и т.д.… Но не помню, чтоб пили, кстати сказать, вот особенно, такого не помню, чтоб пьяные как-то… такого че-то не помню. (Но, видимо, бывало). Но это не потому, что люди были трезвенники, упаси Господь. Пили вполне, но просто это было из другого ряда развлечений: вот это одно, а это другое; одно с другим как-то не смешивалось. А в Переделкине, где мы жили на даче, – вот там это в особенности. Ну, с одной стороны, был в нашем… в нашей деревне Измалково, которая над… около пруда вот этого Самаринского. Я про него рассказывал, ну, вы видели его, да? Который посередочке между Баковкой и Переделкиным, так, если двумя железными дорогами, Киевской и Белорусской, значит, соответственно, Баковкой и Переделкиным. Там был… Там было такое здание, которое было, – я его помнил с детства, – это был сельсовет, Измалковский сельсовет. Потому что это был не колхоз, а, по-моему, совхоз, кажется, да. На нем… ну, изба, просто изба и изба, – на нем флаг стоял, вылинявший до белизны, вот, просто белизны настоящей такой. Но как-то это никого не смущало, такой с белым флагом. Детское мое воспоминание, как нас туда возили голосовать; это на санях… при том, что нам… я говорю, что мне всегда потом вспоминался этот… знаете, это анекдот был такой относительно известной картины «Боярыню Морозову везут голосовать», потому что это действительно очень похоже, почему-то… нам там дойти было десять минут до этого самого… сельпо, в общем, там, по замерзшему пруду. Но я помню, как нас на таких санях, розвальнях, провезли по этому спуску, потом через пруд, и подвезли туда. Это, так сказать… это такое еще… детские… У меня, кстати, мое рождение зарегистрировано ровно там, вот в этом самом сельсовете. И вот, около него площадка, на которой тоже устраивали танцы. Но там было легче, потому что это не было постоянной танцверандой, там, конечно, но там было электричество рядом, так что там спокойно можно было вынести что-то, не помню… Ну, и гармонист находился, все-таки почти деревня вот такая, так сказать, поселок такой деревенского типа. А около станции «Баковка», с одной стороны, и около станции «Переделкино», с другой стороны, были танцверанды – Баковская и Переделкинкая. Они были так вот… ну, близко совсем от станций, но всё-таки немножечко так отступя, там, где-то такое… Это было в одну сторону 2 километра или в другую сторону 2 километра; в общем, такое расстояние – не так, чтоб совсем маленькое, но, тем не менее, всё ж таки… И туда мы отправлялись практически ежедневно. И, более того, бывало так, что мы приходили в Баковку и вдруг обнаруживали, что сегодня Баковка закрыта, и мы пёрли все 4 километра обратно, через это самое, до Чоботов… т.е. до Переделкина. Сейчас на этом месте уже Москва. Так вот, как-то ничего, хватало… Начиналось, я не помню, во сколько это дело, вечером, конечно, где-то в какое-то уже такое… когда так стемнело и, соответственно… и продолжалось, по-моему, до 11 вечера. В 11 вечера ставилась пластинка [Леонида] Утёсова и Эдит Утёсовой «Засыпает Москва, стали синими дали… Что сказать вам, москвичи, на прощанье?» и т.д. Это всегда вот, когда они ставили – это значит всё, конец, кончаем. И расходились. И расходились по соседним поселкам, деревням и т.д., стайками, парами, компаниями и т.д. Ну, конечно, всякие были ухаживания и прочее; всё, так сказать, всё, чему положено – всё было. Я помню, как мы к каким-то девицам, каким-то подошли, когда… (ну, это наверное было многократно) [смеется] … помню один случай. Помню, как мы к этим девчонкам подошли, не очень их разглядев даже особенно; мой приятель Митька сказал: «Девушки, вам не страшно одним через лес?». (Вот, действительно, там с одной стороны забор, с другой стороны лес такой). «Ой, нет, – сказали они, – с вами страшнее» [все смеются]. Девушки потом оказались, так, полузнакомые, из нашего же поселка, – так потом мы их опознали. Вот так. Драк не помню на этих верандах. Вообще говоря, таких вот подростковых потасовок хватало, конечно, иногда и с поножовщиной, но, в общем, не так, чтоб часто, в общем, не могу сказать. Ну, так, как это выглядело: по стенкам жались, в основном, девицы с безразличными лицами и парни, которые робкие. Курить везде было можно, так что курили все. Парни. Девочки не курили; это как-то тогда было не принято, это редкость большая была. И вот, когда начинала звучать музыка – приглашали. Какие были бойкие ребята некоторые, другие, конечно, поскромней и т.д. Составлялись какие-то и пары иногда, видимо, и прочее. Ну, риск был нарваться на какую-нибудь девушку, которая, как бы сказать, ходит с каким-то таким крутым парнем, и могут и намять бока, конечно, после этого, это такое вполне было возможно. В общем, какое-то было очень живое времяпрепровождение, я бы так сказал. А музыка была очень различная. Дело в том, что в это время была в обороте очень еще сильно… это какие-то были еще… какие-то фокстроты и танго довоенные – [19]30-х, даже и [19]20-х годов. Они есть все на пластинках, и в записях сейчас они известны – это, ну, типа какие-нибудь «Рио-Рито» и т.д., вот такого рода (да вы не знаете, конечно, это).
[«Рио-Рито» знаем.]
«Рио-Рито» да…
[Да, до этого, ну…]
Да, да, да. Ну, в этом роде – их там было достаточно много. Потом наши военные навезли из Европы много чего, вот, так сказать, разных самых. Очень была обаятельная такая польская вот такая танцевальная музыка, эстрада хорошая. И эти пластинки вот жили в этом, значит… еще жили и доживали свое время. Это одно. Другое было… была, ну, наша советская эстрада: это какие-то тоже либо Утёсовские, либо вот Цфасмана, Рознера… ну, Рознер позднее, по-моему. А вот Цфасмана и Утёсова, в основном, больше всего. А также чрезвычайно любимый очень, – они тоже все очень, строго говоря, все в ритме танго или фокстротов, – это романсы Изабеллы Юрьевой, Клавдии Шульженко, [Вадима] Козина и другие. Попадались изредка [исполнения] Лещенко, но Лещенко – это поскольку зарубежная была… его было сильно меньше.
[А почему Лещенко был зарубежное?]
Лещенко был эмигрантом. Нет, вы имеете [в виду] другого Лещенко [Льва – прим. расш.] Вы имеете в виду [нрзб. 00:34:14,371].
[Да, простите, пожалуйста, я думал, он слишком молод, наверное, был для того времени.]
Нет, нет, нет, вы имеете в виду не того Лещенко. Вы имеете в виду нынешнего Лещенко.
[Да.]
Нет, а был… Пётр Лещенко был такой очень популярный певец [19]30-х и [19]40-х годов. Он жил в Румынии и, когда наши вошли, его, по-моему, прикончили там, как-то, каким-то образом, – я точно не очень помню. По-моему, его просто арестовали и он [нрзб. 00:34:40,322] погиб. Он уже был немолодым человеком. А он был… таким мастером таких вот, так сказать… ну вот, он и Козин – это были такие как короли просто, но Козин был в России (впрочем, в это время его уже посадили), а этот самый… а Лещенко был там (впрочем, в это время его уже не было в живых). Песни у него были вполне классные такие. Ну как, «Чубчик, чубчик, чубчик кучерявый», там, эти самые, всякие «Станочек мой, станочек», «Помнишь наши встречи с тобой, / В далеком теплом Марселе?» [«Мое последнее танго»]. Между прочим, конечно, это можно было бы принять за такую какую-то «экзотию» [нрзб. 00:35:21,863], но так нет, он и в Марселе бывал, конечно.
[Забавно, когда эти песни начинают петь бабки в деревне, говоря, что «щас вам старинную спою». Да, то есть мы понимаем, что это советская эстрада [19]30-х – [19]40-х годов.]
00:35:37,257-00:36:45,187 - РАСПИСАТЬ!
[С бобинами…]
…ленточные. Тоже такие здоровые ящики, они были довольно дорогие, и они были у богатых людей, в основном. Вот у меня был… У меня магнитофона своего никогда не было. Т.е. я купил во взрослом, совсем не юном возрасте для экспедиций монгольских только первый магнитофон. Кстати, где-то валяется в этом самом, у нас там… видимо, где-то у Елены Петровны там должен быть в каком-то ящике, потому что я его когда-то принес туда для записи; это была… по-моему, он «Электроника» назывался. Вполне хороший магнитофон, кстати. Ну, таким, небольшим чемоданчиком [нрзб. 00:39:59,865]. И он, значит… Это магнитофоны, да, появлялись. И у меня магнитофон был у знакомого, у одного единственного знакомого, а он был сын писателя, причем такого, ну, как бы, из… элитного писателя, живущего в Лаврушинском переулке. Это был такой… такой писатель, генерал, партизан, такой, Вершигора\ его была фамилия. У него был знаменитый роман, – ну, знаменитый в то время, – «Люди с чистой совестью». Я не читал. А сын его Женька, младший, с которым мы познакомились в Коктебеле во время первой моей поездки (это было еще, соответственно, в [19]54-м году), – вот, он был богатый. У него был магнитофон, ему папа мотороллер купил в какой-то момент. У него, там… Парень был оторва, вообще говоря. И, так, я не знаю… сигареты покупались блоками, еще какие! «Дукаты» - это, знаете, небольшие такие красненькие пачки, рыженькие такие пачки; и там, так сказать, блок – сто пачек, так сказать, куда-то там в угол. Мама была такая тоже… Отца я никогда почти не видел, он почти там не бывал. Где он бывал – я не знаю. Он был такой настоящий генерал, с лампасами настоя[щими], с бородой, такой, вообще был хороший генерал. Ну, как-то я его видел [нрзб. 00:41:33,637]. А маму… мама, да, бывала, мама была. А Женька, я не знаю, открывал сейф в стене, вытаскивал отцовский пистолет, лупил из этого пистолета в стенку – в общем, весело. У него был магнитофон. Чё мы на его магнитофоне… отдельная квартира, три комнаты…
[Генерал…]
Ну, понятно, не все три, но вообще… генерал-писатель, главное – писатель, может быть, в данном случае. И мы там, конечно, у него оттягивались по полной. А еще были до магнитофонов, настоящих… т.е. параллельно с магнитофонами были магнитофонные приставки. Это что такое? Это как проигрыватель. Это такая… устройство такое, которое содержит в себе только лентопротяжный механизм, т.е. только мотор, а звукосниматель, головка – от нее, значит, надо вести вот в тот же приемник. Ну, принцип такой же. Магнитофонная приставка у кого-то у нас, полубогатого, была, но вот не помню, у кого, но и, в общем, так сказать, такой… из каких-то таких, несколько более состоятельных родителей. А так – ни у кого ничего не было. И вот собирались, так сказать, в квартирах, и, я как помню, очень ценились ребята, девочки, у которых родители были в отъезде и жили которые, ну, более или менее изолированно, хоть отдельная квартира, там, не квартира, вот как-нибудь. Как сейчас помню – была какая-то Алка. Кто она была – я сейчас плохо помню. Она была не из нашего класса. Она была подругой кого-то из нашего класса, какой-то девицы. Не помню, ее называли Алкой Бережковской, но она не была Бережковской, это она жила на Бережковской набережной, а фамилию ее я не помню. И вот, у нее была почему-то комната такая, в которой мы тоже, я бы сказал… использовали на все сто. Ну вот, ходили, значит вот, собирались, у Алки в шесть часов. Ну, это, вот, мы были в последних классах где-то, и это вот такое веселое было время. Ну, соответственно, еще ко всему прочему, это [19]57-й… [19]56-й—[19]57-й—[19]58-й годы – это хорошие, вообще, годы были. Оттепельные. Разгар, так сказать, оттепели, фестиваль и т.д. Ну, да. Так вот это вот то, что я имею вам сказать про танцы. Занимало много места в жизни, – вот что скажу я вам, – много места в жизни.
[У нас только дискотеки, видимо. В доме танцев я в [19]80-х – [19]90-х совершенно не помню.]
Думаю, что нет.
[Я не знаю, позже были? Тоже, наверняка?]
Думаю, что нет.
[А вот насчет квартирника, т.е. квартира, когда она свободная, это всегда да, это конечно.]
[нрзб. 00:44:35,867] всегда хорошо – предки на даче.
[Ну, даже не предки на даче. Ну, т.е. если у человека есть какая-то автономная, действительно, закрытая квартира, да – то все к нему ходят.]
Не, ну, разумеется лучше, чем подъезд или кухня… коммунальная кухня, откуда, того и гляди, выпрут, так сказать, за…
[На танцы… Вот, моя сестра на танцы уже не ходила. Это было совершенно не в культуре. Она [19]80-го года, и даже, как-то, и мысли не было.]
[Т.е. вот это ощущение танца, да, может быть, под магнитофон, когда люди собираются из двух-трех районов – это вот для тех, кому за тридцать, это я четко помню какой-то такой штамп для аудитории.]
Это другое.
[Т.е. танцы для тех, кому за тридцать. Нет, я понимаю, но со словом «танцы», да, это всегда ассоциировалось?]
Так и называлось – танцы. Танцверанда, танцплощадка… танцплощадка, пятачок. Танцплощадка – это могло быть и танцверанда, и пятачок можно было назвать так. Да, это… Еще раз хочу сказать, это было… Вообще, много времени проводили компаниями. Много времени проводили компаниями, вместе, большими довольно компаниями, человек по 7—8, больше, 12 и т.д. Любили, чтоб быть компанией. Вообще, чтобы еще и выпивка, да еще и закуска – ну, это, что называется, по большим праздникам все-таки. Ну, выпивка бывала всяко, но… это какое-то другое, вообще говоря… это немножко из другого ряда, немножко из другого ряда. А так вот, когда вот… я не помню даже чая. Только потанцевать, ничего другого. Свет гасили. Не совсем. Настольную лампу ставили под стол. И называли «подстольная лампа». А верхний свет гасили. Так полумрак был. Нет, совсем полностью не выключался, но полумрак нужен был.
[Ну, романтично.]
Да, да. Да.
[Стихов не читали?]
Песня как форма времяпрепровождения. Поющие компании. Песенный репертуар (названия, фрагменты текстов, полный текст песни «про Петрову»)
Нет. Со стихами это отдельная история. Стихов не читали. Стихов, скорее, стеснялись, и, вот, время на это, так сказать… это из другого… из другого ряда. Со стихами тоже было. Но… это вот одно. Ну, другая форма времяпрепровождения – это, конечно, песня. Ну вот, я говорил, что пели чрезвычайно много и, так сказать, так вот… компаниями, в основном. Ну, где только не пели! Кузов грузовика. Едем, нас везут куда-то… такое… Откуда везут? – сейчас я не могу сообразить. А, это я работаю на нашем, этом, РМ. И нас, значит, везут к чёрту на куличики, в какой-то… чтобы мы там чё-то работали, зачем-то, не помню. Но работали не по своей специальности, а прибрали какой-то пионерский лагерь, вот, скажем так. И везут нас за сто километров. Там мальчишка такой, довольно блатной и очень сомнительный, с аккордеоном… наяривает на этом самом и поет, другие подпевают, вполне. Но один сильно выпивший, который около него сидит, умиленно смотрит на него и говорит: «Ты мне сыграй». Морячок такой… Может быть, и псевдо-морячок, но, во всяком случае, в тельняшке, и какие-то еще на нем были соответствующие опознавательные знаки. Говорит: «Да я тебе сыграю, но ты пропой». Но он не может пропеть: у него слуха нет, во-первых, во-вторых, он едва лыко вяжет, вообще говоря, он слов-то не помнит. А он хочет какую-то морскую песню [смеется]. Он, значит… вот, там чего-то там… так сказать, какие-то песни поет. Сейчас не очень хорошо помню, что-то было у него такое… про Ереван чего-то:
«Стук колёс, поезд мчится,
Город за рекой.
На горе на Арарате
Дым стоит столбом.
Город слева, город справа,
Горы и леса.
Ах, Армения родная,
Просто чудеса!»
[Как удивительно вы запоминаете песни-то… на раз.]
Я запоминаю. У меня очень избирательная память. Я очень хорошо в жизни запоминал рифмованные, ритмизованные тексты. Стихотворение довольно приличного размера мне достаточно было прочесть один раз, чтоб я его запомнил. И не надо было это самое… И помнил долго. Сейчас, конечно, сильно память уже подсела, даже и долговременная, но раньше я мог, не останавливаясь, много прочитать. Да, а песен я знал много. И, значит, вот это была… Пели, я говорю, вот кузов… вот, там, я не знаю… Конечно, это около пруда, где мы проводили лето. Там… Я, по-моему, рассказывал… мне запомнилось, единственное… не единственное: парень с гитарой, такой приблатненный, татуированный, – я, по-моему, рассказывал про это. Самое ужасное в компании – парень какой-нибудь, любящий петь и лишенный слуха; это очень тяжело, но… случалось. И у нас… Мы жили… У нас была гитара, у нас был патефон. Мы снимали дачу вчетвером, одну терраску на четверых: четыре кровати там стояло. И было нас двое из… (никого нет уже в живых сейчас), – вот, двое было из одной школы: мы с моим одноклассником Сашей Тихомировым, которого я вспоминал, поэт; второй – наш… классом ниже один; и еще один парень – брат Ирки Емельяновой, Митька. И мы там развлекались уже как-то менее невинно, я бы сказал так: там и выпивки было много, и патефон у нас был; танцев не помню (а где там было танцевать, там места не было, только, чтоб пройти между этими нашими топчанами). И, значит, соответственно, ну вот, песни с гитарой – да, это было. Митька увлекался чрезвычайно морем, на котором, к слову сказать, не бывал ни разу, и его было очень большое… У него было это… комплекс неполноценности по этому поводу, потому вся его морская романтика, тельняшка и всё прочее – оно как бы базировалось… оно было таким вот, так сказать, обожанием издалека.
[Платоническим.]
Ну, как бы да. Он хотел, но, вот… но издалека. А я в [19]54 году впервые на море был, в Коктебеле; я и не претендовал ни на что; меня… я моряком быть не собирался, и у меня совершенного этого не было, но я видел реальное море, и у меня был против Митьки хороший аргумент. Я говорил, что «ты, собственно говоря… ты моря-то не видел». И, вот, ответить было нечего действительно. Хотя мое курортное море, конечно, это что, но тем не менее, – вот так скажем. Ну, значит, там были морские песни. Был у нас парень один старше нас, он был Толька Ромов (тоже его упоминал, по-моему), он был из этого самого… он в Америке где-то сейчас живет; он сценарист, литератор и т.д. А тогда он только-только как-то выписался из какой-то мореходки, был действительно реально как-то связан с морем и привез какую-то кучу какого-то фольклора, вот этого курсантского. Ну, я бы сказал, очень «соленого», и, так вот, при девушках не воспроизвести. И там были какие-то стихи, поэмы, и песни тоже. Но он, как и Митька, был лишен слуха, поэтому вот я, к сожалению, многих песен не могу даже понять, каковы они… как они звучали в оригинале. Однако, тем не менее, я помню от него некоторые версии, шуточные версии «Мурки», чё-то еще, не помню, какие-то еще песенки были. Так, если вспомню – то… [если] подумать – то могу вспомнить. Песни. Еще мы были… Еще, значит, у нас было… С песнями что связано у меня… Да, вот эта вот поющая компания на даче, ну, т.е. компания, так сказать, не то, чтоб все пели и не за тем собирались, чтоб петь, но попеть любили, если есть гитара, если есть [тот], кто может аккомпанировать и кто знает тексты. Потому что… эта формулировка Олега Рудольфовича, почему мы не поем русские песни до конца, – она, в общем, справедлива. Мало кто знал песню от начала до конца; знали обычно первый куплет, ну, второй, дальше начиналась… какой-то, так… неопределенность. Потом… Но, конечно, наверное, самое интересное и самое яркое – это компания были у нас, это студенческого уже времени. Она была… Опять-таки, она была на основе квартиры. Знаете, это вот… было такое районное мышление. Ну вот, я говорю, что ребята из нашего двора, ребята с нашей улицы. Ну, мы, понятным образом, что мы друг друга знаем, мы имеем друг с другом дело, а, там, где-то, кто-то, это какая… Я не помню, рассказывал или нет: я, когда мы… тоже скоро полвека как мы поженились с Валентиной Степановной, я понес ее паспорт, прописывать ее в квартире; это мы жили на Хорошевском шоссе тогда. Я пришел в отделение милиции, в паспортный стол, подал паспорт этому самому милиционеру, который сидел там, который взял и дальше начал чё-то записывать, потому вдруг как-то уронил руки так и с изумлением воззрился на меня. «Слушай, – говорит, – да вы же из разных районов». – Я говорю: «Да». – «Так как же вы познакомились?». Вот это вот такое вот, так сказать, действительно, такое районное мышление. И мы… Вот эта наша была компания, условно говоря, студенческая, хотя на самом деле, мы были из разных… ну, это вот… Одна компания шла с моей стороны – вот мои одноклассники, немножко мои друзья, другая со стороны известной вам Иры Емельяновой, ну она… да, она в это время уже, кажется, была в лагере, хотя, честно сказать, не помню точно. Ну, ее брат, и ее учительница и т.д. И вот эта молодежь, которая поступила в университет, и у них были тоже там свои друзья, которые приведены были туда. А хозяином комнаты был такой Саша Сумеркин, такой специалист… впоследствии специалист по Цветаевой (он умер уже какое-то время назад в Нью-Йорке). Очень такой обаятельный, интересный такой мальчик был; он все равно маленький, молоденький мальчик. Он на фортепиано играл, у него было фортепиано. И, соответственно, у нас было там хорошо. Ну, компания была такая интеллигентная просто невероятно. И мы как-то там… вот мы, я с моими приятелями двумя или тремя, как-то несколько потершиеся немножко на улице, чувствовали себя несколько такими, ну, как бы это сказать, шершавыми какими-то вот такими, не очень соответствующими, такими чуть-чуть Марти\нами И\денами такими, как бы сказать, хотя, конечно, это всё чушь, и, вообще говоря, всё было довольно ровно, но тем не менее. А там был такой… был в этой компании студенческой такой… такой Вика Раскин, такой вот, сокурсник мой, который впоследствии… он сейчас в Америке, профессорствует уже давно, специалист по юмору. Это Сашка знает его.
[Я тоже знаю.]
Вот, значит, Вика… Вика Раскин, вот Сашка Сумеркин, такой Коля Котрелёв, ну, который и ныне в Москве, такой еще несколько почвенноориентированный такой человек, занимающийся… специалист по русской литературе из ИМЛИ, и т.д. Как-то… большая часть каким-то образом так по-разному состоялась. Пожалуй, в наших песнях было интересно вот… В тамошних наших, так сказать, этих самых экзерсисах, этих вот песенных, было интересно то, что, конечно, был… там был очень большой элемент юмора, потому что мы пели песни, воспринимая их как смешные. А пели мы… там были… Сашка знал много довольно, слух у него был замечательный. Кто-то приносил… Я помню, Вика Раскин принес песню, не помню, не знаю, откуда, я ее мало где слышал, почти не слышал нигде, это «Петрова» называлось:
«Жил граф Фредерико с графиней Эльвирой
Под красною крышей селенья родного,
А рядом в своей незаметной хавере
Жила одинокая некто Петрова.
Графиня была словно пташка невинна
Не знала ни грязи, ни туфты грошовой,
А граф был свинья и большая скотина
И быстренько спутался с этой Петровой.
Напрасно графиня рыдала в томленьи,
Напрасно стонала в роскошной столовой,
Напрасно молила его на коленях:
«Отстань ты, паскуда, от этой Петровой!»
Она не жалела ни крема, ни пудры,
То брошь, то другая какая обнова,
А он-таки бегал до этой лахудры
И всё ей нашептывал: «Ух ты, Петрова!»
Однажды, с мечом подойдя к кабинету,
Сказала графиня ужасно сурово:
«Герба на тебе, на мучителе, нету,
Сиди и не бегай до этой Петровой».
Но граф был как будто в чаду алкоголя,
Иль проще сказал, был под мухой слоновой.
Он шваркнул графиню башкой с антресоли
И тут же отправился к этой Петровой.
Графини роскошное, пышное тело
Лежало в крови на дорожке ковровой,
Шептала оно языком омертвелым:
«Попомню же это тебе я, Петрова!»
Ее схоронили роскошно и пышно,
Граф пролил слезу над могилкой дерновой.
Весь день его не было видно и слышно,
А ночью отправился к этой Петровой.
Но призрак графини явился из гроба
С тяжелою крышкой мореной дубовой
Она-таки съездила этого жлоба,
А после заехала этой Петровой.
Вот так богачи разлагались и жили
(развлекались и жили),
В наш век уже нет и не будет такого.
Давно похоронены в братской могиле
И граф, и графиня, и эта Петрова.
Такая баллада.
[Класс!]
Я говорю, не слышал, вот, после не слышал нигде. Ну, и другие приносились, и другие песенки, более известные. Какие-то были старые фокстроты, типа «Есть в Батавии маленький дом», «Шум…»… нет, «Шумит ночной Марсель» мы не пели, знали, в общем, но она такая, так, посложнее мелодически, не для хорового пения. «Они стояли на корабле у борта» и т.д. Ну, там, я говорю, что там было несколько вот такое, вполне оправданное такое, несколько ироническое отношение, хотя, в общем, пели с удовольствием. А также уже появившегося к этому времени Окуджаву. Высоцкого еще нет. Новеллу Матвееву чуть-чуть, ее как-то не очень там привечали, в этой компании. Ну вот, сказать так, авторская песня уже стала появляться. Ну, еще какие-то там песни были. Пели много, вечерами напролет; просто вот так собирались, ну, конечно, разговаривали где-то в интервалах, там что-то, конечно, и не только было. Так что вот такое вот тоже. И этого было… Вообще, пели в разных местах и много. Я как-то решил для себя вот как-то посчитать, а сколько я, собственно, песен знаю; не от начала до конца, а просто которые я помню, что вот такая песня была, вот строчку помню и т.д. Записывал, записывал – у меня получилось 100 примерно. Это, в общем, конечно, я… не то, чтоб все текстуально…. ну, какие-то и текстуально, естественно… Но, видимо, это более-менее, ну, соответствует определенному репертуару определенного круга, потому что я…. у меня это подсобралось в нескольких поющихся(так!) компаниях. Собственно, то, что я потом, много-много десятилетий спустя, когда-то занялся, действительно, городской песней – это отчасти было продолжением этого, поскольку я был… здесь себя чувствовал не просто, в общем… ну, по-своему, человеком, знающим традицию, ну, и просто ее носителем до некоторой степени. Да. Это песни, да. И потом еще… Ну, и разные другие… Мой друг по школе, местный хулиган и выгнанный за неуспеваемость из школы, – впоследствии ставший вполне мирным мастером по холодильникам, скончавшийся сейчас, – он пел целый ряд песен, вообще, так сказать, таких… Ну, это вот были настоящие, такие непритязательные, хорошие, настоящие уличные песни.
«Я родился на Волге в семье рыбака,
От семьи той следа не осталось.
И хоть мать беспредельно любила меня,
Всё ж судьба мне ни к чёрту досталась.
У родного отца не хотелось мне жить,
Ни косить, ни пахать, ни портняжить.
И с веселой братвой, по прозванью шпаной
Я поехал по Волге бродяжить…» и т.д.
Такая тоже очень…
[А без гитары пели, Сергей Юрьевич?]
Как-то без инструмента не помню. Всегда нужен был инструмент: вот либо, я говорю… вот либо гитара, либо фортепиано, либо, реже, аккордеон. Такое тоже случалось, но это так немножко… в наших компаниях аккордеон как-то не очень… не очень был; из мне близко знакомых людей на аккордеоне играла у нас одна девочка из нашего класса, но мы под это не пели, вот этого я не помню такого. Девочка впоследствии кончила цирковое училище, впрочем циркачкой не стала. Так что вот так.
Чтение стихов как форма времяпрепровождения. Поэтические (литературные) компании. Самиздатовская литература и ее распространение. Воспоминания о посещении дома Максимилиана Волошина в Коктебеле
Теперь то, что касается… да, то, что касается стихов. Уж коль зашла речь. Я, как говорил, что я, действительно, очень много знаю стихов. И знал и тогда. У меня, когда я работал на этой своей работе, про которую, может быть, имеет смысл подробнее рассказать отдельно… Я работал в разных местах. Первый раз я работал в Балашихе; поскольку мне не было 18 лет и меня нельзя было ставить в сменную работу, и меня отправили подальше от всякого контроля к черту на куличики. Я проработал там… ну, с осени до весны, так сказать, пока мне стукнуло, наконец, восемнадцать. Это было далеко ездить и т.д. Но не важно. Потом я работал на улице Мархлевского в Центральном телефонном узле, а потом я перешел работать в 3-й пункт. Это одно учреждение было, просто оно занимало всегда высокие места такие, где надо было расположить этот самый… приемно-передающее устройство. Ну вот, это был шпиль гостиницы «Ленинградская» на Комсомольской площади. Вот, если вы будете на Комсомольской площади – посмотрите на здание гостиницы «Ленинградская», которая стоит там за железной дорогой сразу, за окружной. Вот если вы берете этот шпиль самый, а дальше вот под ним – первая башенка; вот в этой башенке я просидел два года в свое время. Но это отдельная, так сказать, отдельная история. У меня был там мой… перетащивший меня туда старший техник Лёва Фридович, который был одновременно… ну, как сказать, был моим отчасти… так сказать, стал приятелем; он на 12 лет меня был старше, и как-то так я вполне держался дистанционно, но тем не менее. У него была компания. Компания людей его возраста, людей, я бы сказал так, литературно заинтересованных, но не являющихся… не относящихся к литературной среде. Там были геологи; там был… там были больше всего геологи, кстати сказать, но не только; были какие-то люди и других… ну, вполне таких, так сказать, профессий. Молодые, наверное, по тем… просто мне они казались уже так на возрасте, но мне-то было сколько? – 20 не было, или 20 было, я не знаю; а им было… ну, кому-то 35, кому-то, может, под 40 самое большее, я думаю, но не больше. И я особенно помню один был такой человек Володя – лысый, с усами, большой, с трубкой, очень громкий, – и он весь так какой был… набит, у него портфель был с какими-то нелегальными текстами, перепечатанными на машинке. Гарик мне потом говорил, что он даже знает, кто это такой, что он как-то, какая-то очередная… входил в какие-то уже… впоследствии, это еще [нрзб. 01:07:33,672] движения еще толком-то не было… круги и т.д. Это вот этот вот Володя. А другие там были еще… какая-то очень милая супружеская чета, еще… Они все ужасно любили стихи. Но знание их было довольно ограничено, знали они довольно мало относительно. Но дело не в том, что они… Взять было неоткуда. [Потому] что у меня было источников больше, и я наизусть знал Пастернака, Блока, Мандельштама, Цветаеву, Ахматову, Заболоцкого, и Бог знает сколько… Много всего, чего они просто… у них эти источники были недоступны. И Лёвка меня стал водить вот в эту компанию исключительно как бы для того, чтобы почитать им стихи.
[Книжка такая.]
Меня очень любили там, потому что… Я совсем молоденький, они были постарше. Ну, очень такие приличные такие были люди и симпатичные, в сущности, очень. Это тоже вот, как бы скажем, такое времяпрепровождение, абсолютно ушедшее. Я как-то помню вот эти вот… в основном, мы были у Юры и его жены, (не помню фамилию, не помню, как ее звали) – геолог, и она, по-моему, тоже была геологиня. И когда, значит, там… Нет, они тоже что-то читали, но вот я помню, что у Юры в ассортименте было два стихотворения, собственно больше как-то у него это не выходило. Одно – это потом, впоследствии прозвучавшее в этом… знаменитом фильме, Кочеткова: «В сыром прокуренном вагоне…», вот это, ставшее… я его тогда еще слышал, тогда не напечатанное нигде, по-моему. Второе – еще какое-то, про каких-то зайцев. А у меня, конечно, ассортимент был серьезный такой, нормальный. И вот, как бы, да. Это, значит, соответственно, конец [19]50-х – самое начало [19]60-х годов, вот это время, да.
[А как это называлось?]
Что?
[Ходить на стихи, квартирник…]
Никак. Никак не называлось, по-моему.
[В гости…]
«Пошли к Юре». «Сегодня к Юре пойдем». Как? Нет, это не институтолизировано никак, там не было… Было времяпрепровождение: «Пошли потанцуем», «Пошли, это самое…», ну вот, в смысле «Соберемся». «Соберемся сегодня», во! «Сегодня собираемся? У кого?» – «У Алки», «Собираемся сегодня» – «Да», «К кому пойдем?», «К кому сегодня пойдем?». Вечер, если ни к кому не пошли, – пустой.
[Потерянный…]
Потерянный, его нет, понимаете? Обязательно куда-нибудь пойти, к кому-нибудь пойти, а в крайнем случае – погулять. Так что это вот… примерно так. Кстати сказать, да… И вот я говорю, что вот это… ну, это было время, когда сильно много распространялось в самиздате большое количество разных текстов – и политических, и не политических. Потому что, я не знаю… Моя жена, Валя, еще до того, как он стала моей женой, по просьбе своей приятельницы перестукала на машинке «Котлован» Платонова. От начала до конца, весь. Одну копию себе оставила, остальное отдала. Там было такое: вот тебе дают на два дня, перепечатай и одну копию, одну себе можешь закладку оставить. А сколько в машинку можно было заложить? – Ну, пять экземпляров, но пятый будет мутный совсем, ну, четвертый, но обычно три экземпляра так брала хорошая машинка. У меня была машинка; мой отчим купил ее, Варлам Тихонович. Она была какая-то с турецким акцентом, вот что-то на ней буква не та какая-то была, пока мы ее не перепаяли; это было очень смешно. Я забыл, какая буква. А он только из-за этого ее и купил, потому что это была немецкая «Erika», которую черта с два было купить, вообще говоря. Она была и легонькая, и прочее. Но Варлам сам не очень ее… не очень много ей пользовался, а я ее как-то освоил с самого начала и уже курсовую работу на ней писал и т.д. Я помню, как ко мне пришла на тот момент моя очень близкая приятельница Наташа Горбаневская и сказала: «Анна Андреевна решила пустить «Реквием»… выпустить в люди. На, перепечатай, себе одну возьмешь, остальное, значит, это самое…». Я помню, как я перестукал этот самый «Реквием» и… ну, не я один, естественно, но тем не менее. Вот так шло тиражирование, таким образом. Ну, и таким образом расходились в жутких копиях, с огромным количеством ошибок, конечно, эти самые… Я помню, когда мы были в Коктебеле, еще была жива Марья Степановна Волошина, и мы… и она принимала… музея никакого официального не было, но она принимала у себя людей, которые были, ну, как бы скажем, которых к ней приводили и как бы проводила такую домашнюю экскурсию небольшую. И я помню, что нас с матерью привел туда такой питерский литературовед, такой Андроник… Ираклий Андроникович Мануйлов [С.Ю. ошибся; правильно – Виктор Андроникович]
[Лермонтовед.]
Лермонтовед, да, да. И он… Я помню ее рассказ фрагментами; мне в это время 13 лет, я, честно сказать, не шибко «врубался», так сказать, скажем. Ну, я помню, что вещички у него всё… вещей было много – окаменевшие медузы, царевна Таиах, и много [других] – живой музей, действительно набитый… такой дом, набитый всем этим самым. Но, вот, как бы сказать, дух неофициальности – он был очень приятен. Это [19]54-й год. И мы… И вот она маме подарила одну акварельку, довольно такую средненькую; ну, она ушла… мать ее сдала как-то вместе с… в РГАЛИ, она там где-то лежит. Она, так, собой не очень представляет… И я помню, что мать переписала с какого-то экземпляра вот это знаменитое стихотворение Волошина «Дом поэта», ровно под этим впечатлением, и еще два стихотворения, но с таким количеством ошибок, видимо… Откуда она это переписывала – я не помню, честно сказать.
[Прямо так?]
Да, видимо там. Видимо, там. Видимо, там, видимо, у кого-то взяла, но вряд ли у Марьи Степановны, потому что, я думаю, что он был бы точнее тогда. Так что вот… тогда мы… Но это [19]54-й год. Позднее… еще машинки нету, это от руки записано и т.д…. Вообще, от руки довольно писалось не так мало чего. Я помню, где-то такое, у меня…. мне какие-то стихи Новелла Матвеева, я попросил, чтоб… (мы дружили с ней), я попросил, чтобы она мне переписала, там, чё-то, у меня тоже где-то лежит, ею написанные какие-то песенки того времени. Это немного позднее. А Новелла вряд ли пользовалась машинкой, у нее поскольку сложности были… И вот это вот… Ходило много текстов. Их особенно не отлавливали… ну, особенно, так сказать… Я помню, что когда пошли в обиход очень апокрифические тетради Надежды Яковлевны Мандельштам. Т.е. расконсервация Мандельштама, которого знали до этого времени по его ранним сборникам, ну, тем, которые он успел напечатать – «Камень», «Тристия» и т.д.; стихи замечательные, но это совершенно другой Мандельштам. А потом которые вот эти вот воронежские тетради, армянские тетради и т.д. – это всё шло по каким-то, черт знает, я не помню, каким… какое-то было… какие совершенно апокрифические какие-то тетради; они, конечно, восходили к тетрадям Надежды Яковлевны, но я помню, что у нас перепечатаны… это не я печатал, это машинистка печатала… машинистка у нас была, ну, мама как литератор, ей она нужна, машинистка, естественно, это вообще, это отдельная такая институция – машинистки. А наша… у нас машинистка была, знаете, интересная; она была внучка Станкевича, вот, ровным счетом, его самого. Марья Алексеевна. Причем, такая вот, ну, я не знаю… ну, такая вот… такая графиня Хлёстова, вот просто вот я не знаю… Такая, с грубым голосом, такая развязная… ну вот, точнее, не сама графиня Хлёстова.
[Хочется представить ее с сигаретою.]
Да, с папиросой, да, да, да. [Подражая интонации машинистки Марьи Алексеевны]: «Что же это вы, мадам, тут написали?» Но с французским языком, между прочим; правил[а], если мать чё-то ошибалась, где-то какие-то там вставляла… мать знала тоже с детства французский, но тем не менее французские фразы… Марья Алексеевна ей, значит, чё-то там приправила. Вот, да. Так это вот Марья Алексеевна, она много чего перепечатывала, тоже себе экземпляр, конечно, оставляла. И вот это был у меня… (я сейчас жалею)… я, когда появилась… появилась публикация, мне так как-то вот захотелось избавиться от этого, что я это раздал всё. Сейчас жалею, потому что, ну, такой документ эпохи. Особенно у меня было это… Я сам переплетал, я вполне переплетать как-то… ну, как-то довольно любительским образом, но тем не менее. У меня даже где-то такой самодельный станочек есть небольшой, но уже сейчас не знаю, где-то валяется, где-то вот. Я эти самые тетрадки, на половинках от А4 формата, перепечатал; я переплел, давал их читать, и кто-то из читавших, имеющих художественные склонности, разрисовал виньетками, жуткими… вот такими виньетками, всю эту самую тетрадку. Но сейчас бы я, понимаете, не знаю, что бы отдал, чтобы получить это назад, но я не знаю, куда это делось, куда это ушло и т.д. А тогда мне казалось, – Господи-Боже! – ну, это дикое количество ошибок, конечно. Просто что-то плохо прочтено, что-то плохо понято, что-то недочитано, что-то… - кошмар, кошмар просто! Да, так вот. Да, перепечатки. Перепечатки стихов, и они ходили в большом количестве, и какие только ни ходили, и чего только не было. Обменивались этим непрерывно, вот, так сказать, давали на одну ночь, там всё это… Почему-то всё было очень, очень всегда жестко. Вот таким образом я прочитал очень много чего, собственно говоря, еще в самиздате, задолго до публикации этого всего, задолго. А потом это увидел… Какое у меня, друзья мои, было ощущение, когда я, – это уже сильно переносясь во времени дальше, – когда я попал в Мюнхен… первый раз в жизни я… первый раз в жизни за грани[цей]… ну, за… кроме Монголии, один раз в Болгарии, один раз в Чехословакии, один раз в Венгрии, очень короткие такие промежутки… вот, в первый раз я оказался в западном мире.
Поездка в Германию на Международный симпозиум по монгольскому эпосу (Бонн, 1988). Железнодорожные и другие приключения. Коллеги и друзья в Германии (Ганс-Йорг Утер, Клаус Сагастер, Вальтер Хайсиг, Габриэль Суперфин и др.). Магазин русской книги в Мюнхене
Это [19]89-й год, видимо, примерно так. Меня первый раз выпустили туда. Дело было таким образом, что мы с покойным Борисом Львовичем Рифтиным, моим другом и коллегой прорвались… Нет, он уже съездил разок, он, вообще, был выездной, что называется, а я был выездной в ограниченном смысле, т.е., так сказать, в социалистическую заграницу, за вычетом Югославии и прочих проблемных стран. Ну вот, в это время, в [19]88-м году были отменены выездные визы, такие были. Т.е. советский человек не мог просто выехать за границу, он должен был получать на это разрешение. Вот мне такого разрешения не давалось. И вот, значит, это первый раз, когда меня, наконец, выпустили. Я приехал… Мы с Борисом приехали в эту самую…. в этот… мы приехали на симпозиум по монгольскому эпосу. Это был пятый симпозиум, на предыдущие четыре меня не пустили, а тут вот наконец… - это уже был Горбачёв, перестройка, и визы отменили. Мы приехали туда, и мы… поездом, всё прочее, еще никаких самолетов… не знаю, хотя самолеты летали, не знаю, почему-то мы поездом ехали. Мы доехали до Кёльна, в Кёльне нас встретил Сагастер, отвез, всё, мы прекрасно провели там время, на этом симпозиуме. Но когда мы хотели прокомпостировать обратные билеты… у нас была виза на 7 дней в Германию, и нам надо было через 7 дней вертаться назад, а билет у нас обратный был без плацкарты, т.е. билет был, а плацкарты не было, т.е. мест у нас не было. И мы пошли в кассу, чтобы нам поставили туда плацкарту – дело вполне механическое. Билетерша посмотрела, немецкая, в этом самом, сказала: «Мест нет. Ближайшие три недели мест нет и не будет». Чувство, которые мы испытали, мы, советские люди, было… не радость, что мы тут можем пробыть три недели, а ужас от того, что мы нарушаем какую-то… жутким образом нарушаем советские законы. Мы должны ползком, как угодно, вернуться на родину…
[В срок.]
…в семь дней, в срок. Борис кинулся звонить… он позвонил, по-моему… я не помню, с чего начал, – по-моему, в ИМЛИ, в иностранный отдел. Там чего-то мямлили. Да, по-моему… Да. Потом позвонил в Академию наук, в иностранный отдел Академии наук. Ну, это такое ГБистское такое ответвление, я бы сказал, там… вот они все там… через которое мы всегда получали все… все заграничные поездки оформлялись через них. Они сказали, что они вообще понятия не имеют, чё в этих ситуациях делать, чтоб мы их оставили в покое, «звоните в посольство». Мы позвонили в посольство. В посольстве нам сказали, чтоб мы к ним не приставали, что у них нет ни денег, ни билетов, ни плацкартов, – ничего, сказали. Они не пришли в ужас, они нич[его]… Они сказали: «Обратитесь к вашим немецким друзьям, которые вас принимают, пусть они с вами чё-нибудь сделают. И… катитесь, в общем». [Смеется]. Ну… Нам без проблем продлили немецкую визу, пошли в полицию и продлили, всё; ничего, так сказать… там проблем не было. Проблема была, главным образом, в том, что… куда деваться? Понимаете, вот кончил[ся] этот самый симпозиум, гости разъехались, Утер уехал к себе в Геттинген, (я тогда с ним познакомился)… разъехались, кто куда. А мы… нам куда? У Бори какие-то были знакомые где-то в Бохуме, в Берлине и т.д. А у нас еще денег не было. Нам… Мы же на немецкие деньги приехали, своих денег… откуда у нас валюта, марки? – у нас нету марок. А нам дали, по-моему, по 200 марок, ну… чтоб мы не чувствовали себя нищими, так сказать; немцы дали, естественно. И Клаус Сагастер мне говорит: «Ну, ты можешь пожить у меня», – говорит. Ну, сидеть на шее у человека две с лишним недели –абсолютно непонятно, каким образом, а главное даже не только в этом. Это под Бонном. Бонн – очень милый город, вообще говоря, мне он очень нравится. Впоследствии я имел возможность как-то его полюбить. Но дело в том, что Клаус живет в… как он говорит, в деревне, но это та еще деревня; это поселок, который… до которого едут на автомобиле собственном. Ну, там есть автобус, который перестает ходить, не помню, когда, ходит два раза в день, по-моему, или что-то в этом роде. Ну… там не ориентированы они на это, понимаете? И следовательно я должен с ним или сидеть там, с его супругой, и мешать ей жить, как-то вообще говоря, либо уезжать с ним в город и «висеть» на нем, потому он должен меня потом отвезти и т.д…. Ну, в общем, вот так вот. А у меня был, (т.е. был – он есть и сейчас, вот завтра он как раз приедет), друг такой – Гарик Суперфин, – который, отсидев 5 лет по делу «Хроники текущих событий» [подпольный правозащитный бюллетень], он был выслан за границу и работал на радио «Свобода», в архиве радио «Свобода», в Мюнхене тогда была… место. У меня был его телефон. Я, собственно, и так собирался ему звонить-то, естественно, но всё [нрзб. 01:25:42,591] – где Бонн, а где Мюнхен – это пол-Германии, довольно большая страна и т.д. Я ему позвонил, он говорил: «Приезжай ко мне сейчас же, приезжай, там, всё прочее». У меня мои 200 марок, и я обнаружил, что у немцев, – надо сказать, тогда было хорошо, – был такой супер-пар-тариф. Этот супер-пар-тариф, сверхдешевый тариф, он обозначал то, что за 120 марок можно взять билет из любой точки Германии в любую точку Германии, притом, что надо было уложиться, не помню, во что, в какой-то временной период. А вообще, у них много было раньше льготных тарифов, по моему…
[И сейчас тоже есть. Нрзб. 01:26:23,112]
… и сейчас есть, да? Был там тариф выходного дня…
[Wochenendrate.]
…тариф вечера, Wochenendrate, да. Wochenendrate тариф есть еще, да?
[Да.]
Ну, и хорошо. Да. Вот, и, в общем, много там у них, вообще, по этой части хорошо у них. Плохо другое: у них поезда опаздывают. Это, в общем, известно. Немцы…
[У немцев?]
Да. Немцы… Это их… Ну, как бы сказать, это национальный миф такой, национальная, в каком-то смысле, немножко гордость. Ну, как, понимаете… как амстердамцы гордятся своими публичными домами, хоть это вроде бы пятно, но, с другой стороны, – вот, ну как же так, без них-то? И вот как бы, это если бы немецкие железные дороги вовремя ходили. Ну вот. А так они… замечательно! Ездить по Германии в поезде… это комфорт, это плавный ход, это прелестно, это совершенно удивительно хорошо! Ну вот. Я, значит, сел на этот самый поезд 120 и поехал в Мюнхен с тем, чтобы меня там… В Мюнхене встречает Гарик и его приятельница, с которой они вместе… они дом там купили тогда. Он с ними вместе жил. Приятельница его, – она англичанка по национальности, Сюзанна, – она была женой сына Семёна Франка (философ Семён Франк – знаете, такой был?) Он Василий Семёнович, милый очень человек, но очень пожилой уже в то время. Так вот, эта Сюзанна с Гариком должны меня там встречать. А в поезд мы сели вдвоем с…. такая итальянка такая есть, она и поныне живет, она вот должна приехать осенью на нашу конференцию, Элизабет Кёдо, такая монголистка, тоже монголистка, ученица Сагастера. И вот, значит, эта Элизабет, веселая такая дамочка, так сказать… она ехала в Швейцарию к мужу. Мы, соответственно, ехали на юг, до какого-то места мы ехали вместе, а дальше мы должны были… она сходила и прочее. К нам пришел контролер, ну, как положено; контролер – славянин и очень словоохотливый, он хорват; он сообщил нам, что все контролеры – хорваты , что он здесь вот уже 20 лет как зарабатывает для своей семьи, что он посылает туда, так сказать… эти самые деньги туда; что, вообще, Германия – хорошая страна и заработать тут можно; ну, а вообще, «давайте ваши билеты». Мы дали билеты. Ну, он посмотрел в билеты, потом посмотрел на меня, сказал: «А вы едете в Мюнхен?» – говорит. – «А этот поезд до Мюнхена не дойдет». Я говорю: «Как?! Он по расписанию же должен дойти». «Он, – говорит, – по расписанию должен дойти, но…». Один раз не в году, может быть, я не знаю, какого-то числа он идет только до… (черт! я забыл, какой город, там вполне известный город, – сильно не доезжая Мюнхена). Вот. «И, – говорит, – дальше он не идет. Вот посмотрите». Там, действительно, в немецких расписаниях есть такая тонкость: надо изучить частные случаи, потому что на самом деле вот поезд по расписанию, действительно, должен идти до Мюнхена, но по каким-то дням, причем редким, (не то, что через день, а вот по каким-то… Бог знает, там, 29 июня, [например]), он идет только до этого самого города. И у меня полный ужас, потому что я не понимаю, что мне делать. Вот я, значит, доезжаю до этого города. Он говорит: «Не расстраивайтесь, – говорит. – Там, – говорит, – тут же подойдет другой поезд… тут подойдет через это самое… вы сядете на него, который вас довезет до Мюнхена», – ну, стыковочный. Ну, я успокоился. Потом меня стало обуревать беспокойство, потому что мой поезд начал, как и в Германии положено, опаздывать. Я понял, что я опоздаю к этому стыковочному поезду. И что в этом городе без копейки денег, на вокзале… никаких мобильных телефонов не существует… я… я не могу дать знать своим друзьям в Мюнхен, что я… я ничего не могу сделать, и, вообще, положение хреновое, скажем так. Ну, и я в этом унылом виде вылезаю… выхожу на этом… Господи, как… на «С»… на «С» город, забыл, там на юге, так сказать, такой вполне хороший известный город. [Судя по всему, вероятно, Штутгарт (Stuttgart). – Прим. расш.]
[Не был на юге.]
Да. Но это уже, по-моему, это уже Бавария, а может, еще и нет. Ну, не важно. Ну вот, значит, я выхожу, уныло перехожу на другую платформу и, – о, радость!, – вижу, что тот поезд опаздывает еще сильнее [все смеются]. Ну вот, значит, я приезжаю не на тот путь, естественно, они там бегают… но в конце концов нашлись, всё было хорошо. Так я к чему это рассказываю. Я вам рассказывал про самиздат, как мы видели стихи, какими мы их читали, как мы их получали. И вот был в Мюнхене такой магазин, который содержал, видимо, ЦРУ, наверное; ну, в общем, какой-то, так сказать, такой соответствующий… ну, на самом деле, не ЦРУ, наверное, это на деньги американского Конгресса… Вот. Он известный магазин, – у меня сейчас вылетело из головы, как он назывался, – очень известный магазин, там… назывался по имени владельца. Это магазин русской книги. И вот, когда входишь… Ну, конечно, сейчас это всё не работает, а тогда я вошел – я испытал шок. Там русская продавщица. И вот там стоят: трехтомник Мандельштама… этого… Струговский, так сказать, там, довольно … в общем, так сказать, с точки зрения, конечно… – но тогда ! Чего там только не стоит: там стоит Мандельштам, и Розанов, и Ремизов, и, понимаете, и всё на свете – всё то, что я никогда в книжном виде не видел вообще. Замятин, там, я не знаю… Ну всё! Ну плюс политической литературы довольно много: всякие, там… «Номенклатура» Восленского, Авторханова книжки, которые мы читали какими-то… И более того, продавец мне говорит… продавщица мне говорит: «Вы можете взять даром десять наименований. Мы делаем подарки советским людям».
[Ну, надо же разлагать.]
Да. Да, да. Я говорю: «А если я беру три тома Мандельштама – это три названия?» [Все смеются]. – «Нет, – она говорит, – одно».
[Собрание сочинений.]
Я взял три тома Мандельштама, по-моему, четырехтомник Замятина… Ну, я не то, чтоб гнался за количеством, естественно, да.
[Как же это всё довезти-то?]
Это была огромная связка. Я как-то вычеркнул из головы, как я ее буду провозить через таможню, через границу; я просто решил об этом не думать [все смеются]. Потому что, значит, так… На самом деле, никто меня не смотрел просто, время уже изменилось. Я положил их в чемодан, естественно, еле пёр его… когда мы ехали обратно с Борей через Берлин, где вот уж действительно не было ни лифтов, ни эскалаторов – ничего, а нам надо было за 2 минуты с нашими пятью чемоданами перейти с одного… вот так вот… с одной платформы на другую, спуститься, снести эти тяжести, причем их много. Это «волк, коза и капуста»: кто-то должен остаться здесь, кто-то сносит вниз. Внизу как: тоже оставить или…? Ну вот, и т.д. Кошмар! Наконец, мы «угнездилися», так сказать, доехали. Борис уехал к своим знакомым, а я вот у Гарика провел блаженных, я бы сказал, таких… нужное… нужное какое-то количество времени, это было действительно замечательно. И вот этот вот, конечно, магазин я не забуду. Вот, магазин Конкина – это Америка, а вот этот Мюнхенский… не помню сейчас. Он продал его потом. Я помню этого хозяина, он, по-моему, был осетин по национальности, ну там… по-моему, родившийся уже там. Так что вот так вот. Ну, ходили и тамиздатные книги. Ну, ходили и… Но рукописей было больше, конечно, самиздата было больше. Причем чего только не было.
Ганс-Йорг Утер. Монгольские прозвища для европейских ученых
[Сергей Юрьевич, расскажите про Утера.]
А что про него рассказывать? Про Утера… С Утером я ближе познакомился немножко позже. Т.е. тогда мы с ним познакомились на конференции. Он, – ну, как вам сказать, – такой очень любезный, обходительный человек, очень мудрёно говорит, его очень… Я грешил на свой действительно очень плохой немецкий язык, потому что я его как-то плохо понимал всегда. Я пожаловался на него, на это обстоятельство профессору Хайсигу – такому мэтру, главе, так сказать, европейского монголоведения, очень милому человеку. Ну, в каком-то смысле, мы с ним как-то дружны были. Он сказал: «Я его тоже не понимаю», – сказал он. А Хайсиг был как раз… он такой был красномордый такой баварец, такой краснолицый, с седыми такими усами, красным лицом, поэтому монголы его отождествили… монголы, которые обожают давать прозвища всем иностранцами… Я, в частности, «Никель-гваи», ну, это просто усечение от фамилии: «Никель» – это Неклюдов; «гваи» - это частица, уважительная частица; «Никель-гваи». И я, значит, «баг-сахалтай»; «баг-сахалтай» - это короткобородый. Потому что мы с Борисом Рифтиным приехали вдвоем, и мы оба бородатые, но у него борода подлинней – раз; и, во-вторых, он старше – два; он – доктор, а я еще даже не кандидат – три; т.е. у него по всем статьям борода больше. Поэтому он был «их-сахалтай, значит…
[Долгобородый…]
…был длиннобородый, а я был «баг-сахалтай»; вот «Никель-гваи» я тоже еще ко всему прочему. Там более всего повезло венгерскому монголоведу Дьёрдью Кара, чья тюркская по происхождению, конечно, фамилия, – Кара, – совершенно спокойно превратилась в монгольское «хара», как бы сказать, нормально, закономерно, я бы сказал, а его имя Дьёрдь…, т.е. Георгий… венгерское имя Дьёрдь – оно превратилось в монгольское имя Дорч. И он Хара-Дорч, Дорч-Хара, – так сказать, абсолютно естественное монгольское имя. Это у Бориса Львовича, который Рифтин… он имел китайский псевдоним, т.е. просто записанное «Рифтин», записанное иероглифами – получалось «Ли Фу Цин». Самое смешное, что потом, когда, так сказать… обнаружились какие-то китайцы по имени «Ли Фу Цин» - почему бы такому китайцу не быть? А китайцы его под этим именем… он там печатался, он там под этим именем известен, это Ли Фу Цин. А у меня… Моя фамилия по-китайски плохо укладывается, я – Неклюдофу, ну вот, в этом вот никак… Ну, мне и не обязательно. Так вот, этого самого Вальтера Хайсига… вот вы знаете эти вот… оно, по-моему, висит у нас в Центре – краснолицая маска такая вот этого самого Джамсарана – это один из охранительных богов таких, это охранитель севера Мухараджи [?], так сказать, вот Джамсаран… Так они его Джамсаран называли, значит… И, значит, да.
Месячная стажировка в Бонне и другие поездки в Германию (конец 1980-х – начало 1990-х). Путешествие по Германии. Приезд семьи в Германию (поход за покупками). Встречи и общение с Гансом Утером. Поездка с Утером к полосе отчуждения на границе между ГДР и ФРГ. Поездка в Гамбург (этнографический музей и др.)
Так вот, Утер. Утер, значит, да. И это было… Вот в первую встречу мы с ним просто познакомились, там никак… по-моему, двух слов не сказали, это я не помню. Ну, разговаривали, видимо, раз я как-то жаловался на него. А вот на следующий год или через год, я не помню, Сагастер, который мне… пригласил меня на стажировку в Бонн уже на месяц. Я поехал в первый раз уже так серьезно ну как-то так вот. Просидел там вот в этом самом Боннском… в этой самой… Центре… Институт… [в] Центрально-Азиатском институте. Очень приятное место. Хайсиг, по-моему, уже перестал быть директором, по-моему, Клаус Сагастер был, кажется, директором в это время. И он мне… Значит, я там… Ну, что я? Сначала я… Он мне сказал: «Ну чё ты будешь сидеть тут два… целый месяц, – говорит. – Ты Германии не видал. Поезди, посмотри Германию». Я сказал: «Спасибо». Денег платили неплохо, т.е. у меня была профессорская ставка, так сказать… ну, месячная. И этого вполне хватало. Я жил в трех шагах от университета, ну, буквально улицу перейти, это занимало меньше минуты. Он, значит, меня услал в путешествие. Я себе разработал маршрут. Маршрут у меня был такой: Геттинген… почему Геттинген? А, меня интересовала «Энциклопедия сказки», про которую я знал и видел один выпуск. Ничего больше я про нее не… никаких у меня не было. Потом, мне хотелось попасть в Гамбург. Я не помню, почему мне хотелось попасть в Гамбург. А!.. Не помню, почему. Ну, в общем, идея какая-то у меня была по этому поводу. И не помню, еще в какой город. Ну, в основном, вот Геттинген, Гамбург – это вот я помню, но какие-то еще были промежуточные…
[Бремен там же по пути?]
Нет, в Бремен я тогда не поехал. В Бремен я позднее попал. И я сказал, значит… Он сказал: «Да, замечательно, поезжай», и я отправился в Геттинген. Чтоб в Геттинген мне попасть… Единственный знакомый человек в Геттингене у меня был Утер. Я ему позвонил. Он сказал: «Конечно, приезжайте». Я приехал, он меня встретил на вокзале и говорит: «Сегодня, – говорит, – переночуете у меня, а завтра, к сожалению, мы должны будем с женой уехать в отпуск, поэтому я вас перевезу в другой дом, – говорит, – там вас хорошо ». И я у него провел вечер один, в каких-то беседах с его очень милой супругой еще ко всему прочему. Что мне, вообще говоря, из всего этого запомнилось? Мне запомнилось то, что… это же были… знаете, это был… какой же это был год-то, черт его побери? это восьмиде... девяностый что ли… Уже, по-моему, подряд три года был, вот, или… Я забыл сейчас. И он мне сказал, что… у меня че-то немножко путаются вот эти… я много раз бывал в Германии, вообще, у меня они начинают сливаться – что? когда? после чего? Впоследствии много раз бывал. И он… И это было вот самое ужасное в ри…. Да, да, да, это был [19]91-й год. Это был [19]91-й год, когда мне стукнуло 50 лет. И я помню, что потом я собирался ехать в Мюнхен к Гарику, в конце самом, после всего. И от Гарика уже улетать, по-моему, оттуда. Или уезжать?… Нет, улетать. А ко мне должны были приехать Валентина Степановна и моя младшая дочь Катя, вот которая сейчас была, сегодня утром улетела. Она в Канаде сейчас живет. Ну, тогда подросток еще, девочка-подросток. И она… Они… И мне надо было их встречать в Мюнхене – это отдельная эпопея, в общем, похожая на ту, которая… Потому что они ехали поездом через Берлин и, в общем, там… Валя языков не знает никаких, т.е. как… ну, у нее своя языковая политика есть. Это очень смешно было, когда в Италии, – мы с ней впоследствии были в Италии, – [смеется] мы там зашли куда-то купить чего-то такое, и этот самый… там, чего-то выясняли, сколько стоит. Он сказал: «Tre», имея в виду… Cтрого на меня посмотрела, сказала: «три». – «Tre», – сказал он. – «Три». – «Tre», – сказал он уже неуверенно. – «Три». – «Три», – согласился он. [Смеется]. А Катька, которая очень прилично и тогда знала английский – она как партизан… из нее слово выдавить… она стеснялась. Вот они, значит, через западную часть и т. д. Что мне запомнилось? Я помню, как Утер меня повез на машине на ту… это… Геттинген – он, знаете, он около самого бывшего ГДР, там совсем рядом эта вот граница. Ну, границы нет. А там очень интересно, что было в это время – сейчас, я думаю, это всё стерлось уже. А тогда там было интересное, я бы сказал, экологически и в разных отношениях явление, потому что между ГДР и ФРГ была полоса отчуждения шириной… ну, я не знаю, ну, 10 метров, ну, что-то такого типа. Ну, она тянулась вот так по всей… по всей Германии, ну, вот таким, так сказать, зигзагом, как вот она… собственно, граница шла, понимаете? Туда не ходили… ни туда, ни сюда, она была отчуждения так отчуждения, понимаете? И там образовалась своя флора и фауна – на протяжении многих лет, понимаете? – какая-то специфическая, совсем отдельная, понимаете, вот совершенно… А Ханс, он… ему было интересно меня… он с удовольствием ездил, как все немцы, свободно переезжая это место, которое было границей. Ну, в соседний поселок буквально, там, от Геттингена там… вот что это, я не помню… это совсем рядом было. Ну, просто показать. Но контраст был чудовищный! Потому что, когда я впоследствии поймал в Ваймар [Weimar], на конференцию, алтаистическую конференцию… ну, скорые годы, близко к этому времени позже. Меня поражали немцы… ФРГшные немцы, которые, глядя на этот милейший, с моей точки зрения, чистенький городок, – моими русскими советскими глазами, так сказать, – они приходили в ужас, в каком ужасном состоянии находится их национальная гор[дость] – Ваймар, Гёте, вообще там, и т.д. Впоследствии… Нет, это было до этого, конечно, потому что впоследствии, когда я попал в ФРГ, я понял, что это такое значит. Т.е. мостовые не вымыты шампунем, стекла не вымыты до того, чтобы, так сказать, их вообще не видно в окнах, я не знаю, всё не покрашено нитрокраской таким образом, что просто не видно… так кажется, покрасили вчера, ну и всё вот такое вот абсолютно… Газоны не сияют зеленым светом таким, ну и прочее. Это, действительно, тоже сильное впечатление, надо сказать, от первой поездки. И он, значит, меня туда свозил. А потом он уехал. Меня перевез к очень симпатичной женщине, – по-моему, вы ее уже не застали, – такая… она болгаристка вообще, но она отвечала за русскую литературу, за русскую тему тоже… Господи, как же ее звали-то? – Keller-Zurch, Ines Keller-Zurch. Она на пенсию ушла к этому времени, когда [нрзб. 01:47:10,766].
[Инесс ушла на пенсию раньше, чем Утер, да]
Инесс. Да, чем вот… Очень славная женщина с таким… какой-то вот… какой-то… в доме их было что-то такое… я у них прожил день-два, не помню, сколько. Но там всё происходило под песни Окуджавы… А муж ее был из немцев этих самых… кенигсбергских немцев. И почему-то у них еще была в Га… ну, какая-то знакомая их, это была девушка ирландка, настоящая чистокровная ирландка – я впервые в жизни видел ирландку. Она была рыжая, огненно-рыжая, , – она была классическая ирландка довольно, – такая… телесная такая, так сказать, плотная такая, полноватая такая, рыжая, конопатая, в веснушках вся. И мы ее все время уговаривали, чтобы она что-нибудь сказала по-ирландски, потому что нас очень интересовало, как звучит этот язык. Всех – и немцев, и меня в равной степени. Разговор шел, естественно, по-немецки. И какой-то вот дух в этом доме был крайне симпатичный такой. Вот такое у меня было пребывание там. А потом я уехал в Гамбург. Там тоже было приключение, потому что меня Сагастеровская дочка, которая турколог… у нее был приятель – полутурок, в Гамбурге живущий, но не в Гамбурге. Гамбург – большой город, около него там есть такие вроде Пушкино нашего и т.д. Альтена и т.д. Но вот это даже не Альтена, а еще куда-то дальше немножко. И мне… и меня… эта… как же ее звали? – Берта, по-моему, – она меня, значит… позвонила туда, дала мне телефон, сказала, что меня там примут, что у нее там есть квартирка, которая сейчас пустует и можно будет там пожить несколько дней. Я, значит, в эту самую… поехал туда. Ну, я выслушал объяснения, как мне от Гамбурга доехать до этого городка, по телефону, по-немецки, и, в общем, не очень уверенно… Я запомнил, что «дойдешь до красных домов и куда-то повернешь» [смеется], «перейдешь через мост, дойдешь до красных домов и повернешь». Я приехал туда вечером, пересел, кажется, на правильный поезд, – ну, там всё написано, все-таки у немцев это хорошо, всё написано, – и приехал. И пошел. Иду – моста нет. Долго нет моста. Т.е. по рассказу, в общем, было похоже, что мост должен быть… должен был бы появиться где-то вскорости. Потом появились какие-то красные дома, но неубедительно, я бы сказал… они мне не понравились. Но самое тяжелое было то, что, как это в Германии полагается, вечер… в 9 часов вечера на улице ни одной живой души, и мимо проезжают просто так какие-то автомобили, которые на большой скорости, и я не понимаю, че мне делать. А к тому же дождик начинается. Наконец, я дошел до автозаправочной станции и стал выяснять ситуацию с этим самым… с парнем, который там работал, который мне объяснил, что я повернул от железной дороги не в ту сторону, естественно. Что мне нужно вернуться, ровным счетом, назад, перейти на обратную сторону, и дальше… дальше я всё нашел легко. Дальше всё было хорошо. Дальше у меня… Дело в том, что мне надо было… ну, чё мне этот поселок-то? – это городишко. Мне нужен бы Гамбург, а до Гамбурга на электричке, но меня… значит, там отец семейства, – отец этого знакомого, который меня там поселил, очень такой европейский молодой человек, так, ничего турецкого я в нем не обнаружил, – но отец его лежал в больнице в это время, и его сезон[ный]… его билет, пенсионный билет, льготный билет был с какой-то смутной фотографией, (не поймешь, что там), мне был дан. И я в качестве турка немецкого ездил, значит, по этому самому вот билету и обходил Гамбург, – город удивительный, надо сказать, один из самых интересных немецких городов. У меня там было одно забавное приключение, когда я пошел в музей. Там хороший этнографический музей, богатый, хороший. Вы были, да?
[Да, там самый большой, по-моему… ну, не самый большой...]
Да, боль[шой]… самый… едва ли… один из самых больших в Германии, да. И Борис Львович Рифтин дал мне наводку какого-то китаиста, который там в этом музее работает, какой-то, значит, там, про Китай. Ну, мне собственно [нужно] было привет передать, ну, ничего… у меня, по-моему, не было никаких дел к нему. Ну, как-то я… ну, как-то повод. Я зашел туда, ходил; спрашиваю у вот этих, которые сидят там на стульях в зале и т.д. про этого господина – никто ничего не знает про такого господина, вообще, никогда в жизни не сл[ы]шали. Потом они заинтересовались как-то ситуацией, что это вот ходит какой-то иностранец, ищет какого-то человека, про которого они никогда в жизни не сл[ы]шали. И меня тогда направили, совершенно сказочным образом, к какому-то самому знающему человеку, который должен был быть… «вот уж он-то должен знать». Ну, к какому-то пожилому весьма господину, к которому я пришел. Он сказал: «Да, да, – сказал. – Такой был. Он очень давно тут не работает. Он очень давно уволился, и на пенсии, и уехал из Гамбурга, и Бог знает, где он вообще сейчас. Что я его уже не помню, – говорит. Но вот те, с кем я сталкивался раньше, его помнили». Каким образом Борис мог с ним когда-то сталкиваться? – я не понимаю; тут какая-то петля во времени просто, что-то такое не то. Но человек был любопытный, с которым меня свела тут судьба. Он меня привел в какой-то полинезийский зал, который весь состоял из… там была хижина… огромная!
[Это он ее привез, да?]
Он ее привез. Он рассказал мне, как он ее привозил; что у него чуть не жена была полинезийская какая-то. Очень словоохотливый человек. Вы видели его, да? Ну, тоже к нему…
[Да, да, да. Ну, т.е…. Он подошел к хижине, когда мы туда пытались пролезть. Это же домик для инициации… непосредственно.]
Да, да, да. Очень колоритный такой, так сказать… да, дядька. И вот, ну, что-то он там рассказывал… долго потом шел за мной, долго, пока я не покинул этот самый музей. Да. Так что вот… А третий раз, я помню, мы с Утером встречались… я помню, я… что-то… у меня к нему какое-то дело было… Мы… Я был на… тоже по делам, и тоже на какой-то типа стажировке какой-то… в общем, командировка у меня была в Бохуме. И я созвонился с ним, и мы с ним договорились… ну, поскольку он там, даже уже не в Геттингене... и мы с ним договорились в «Макдональдсе» в городе Эссене… или в Обертале… я не помню. В каком-то городе, который был как бы посередочке между нами. А он еще там преподавал, по-моему, в Эссене, и ездил через это кафе. Ну, к моему удивлению, мы действительно встретились, потому что я как-то не очень верил в то, что мы там не потеряемся взаимно. Ну, ничего. Действительно, встретились, я помню, поели вместе, поговорили и прочее. Дело… Какое-то у меня было к нему дело – я сейчас даже не помню. Ну, я с ним переписывался какое-то время, ну, потом переписка понемножку заглохла. Ну, славный человек такой, ну, как бы такой человек для себя был, в основном, так сказать, так. Ну, вполне… Очень компетентный, действительно. Понимаете, в это время он совсем не был таким знаменитым, как сейчас, поскольку этой книги еще далеко не было. Он, наверное, над ней уже работал, но… но это еще до завершения было очень далеко… над трехтомником этим, понимаете? Ну, он, конечно… он работяга, вы знаете. На нем ведь в очень большой степени… этот двенадцатитомник, эта «Энциклопедия сказки» очень в большой степени на нем была. Потом, он же, по-моему и «Фабулу» издавал, он же издавал и… «Сказки в мировой литературе», это серия, немецкая, сказок.
[Да, да, да. Нрзб. 01:56:19,845]
Действительно, и энергичный, и такой вполне работящий человек, да. Это как-то мы из темы вышли.
[Простите, да, это я в офтоп. – Да, это Лена спросила про Утера.]
Ну да.
[Но на самом деле нам скоро надо будет заканчивать уже.]
Да. Сколько сейчас времени?
[Девять.]
Девять. Да, можно заканчивать, да. Значит, вот… Какую тему я оборвал и какую можно было бы закончить?
[Стихи.]
Формы времяпрепровождение молодежи в 1950-е – начале 1960-х гг. Знание стихов тогда и сейчас. Популярность Е. Евтушенко и А. Вознесенского. Собрания с чтением стихов на площади Маяковского в Москве
Вы знаете, я не знаю, может быть, я потом, в следующий раз сделаю какие-нибудь дополнения. Вот сегодня я просто… я вам рассказал про то, что вот… про времяпрепровождения вот в это самое время конца [19]50-х, отчасти и, вообще, в [19]50-е и в начале [19]60-х годов. Ну вот, времяпрепровождение молодежи такой совсем… ну, как бы сказать, нерафинированной, такой обычной, обыкновенной молодежи с танцами, песнями… ну, какое-то развлечение интеллигенции… Ну вот, танцы, песни и стихи. Но это разные слои, это разные… это, немножко, и время немножко разное. Вообще, стихолюбие было очень распространено; было много людей, которые любили стихи, знали стихи, знали стихи в большом количестве. Я в этом смысле не то, чтоб… не уникален был. Конечно, мне сейчас несколько дико было… Я помню, когда я еще пришел преподавать только еще, вот только-только тогда начал с РГГУ еще, вот когда еще… там первый еще был этот самый… ну, там еще… Паша Горенков, Вика Малкина и т.д. – еще это первые… первый выпуск, первый набор. И следующий – когда моя Катька, а потом Сашка, по-моему, следующий – вот как-то вот это вот первые выпуски. Я помню, что меня удивляло, что я им цитирую Петрарку, а у них на лицах ничего не отражается. Я Петрарку цитировал не просто так, а по… формула неопределенности:
Скорей возникнет снег средь летних нив,
В морях безводье, в Альпах – рыб плесканье
Скорее солнце вспять вернет сиянье
Туда, где Тигр с Ефратом [нрзб. 01:58:45,651] разрыв
Чем прекратят затеянную брань
Со мной безвинному любовь и донна…
Это же ведь формула невозможного... ту же, которую мы знаем в фольклорных текстах. Ну вот. Никакой реакции. Я попробовал с другой стороны, я Ходасевича прочитал:
Скорее челюстью своей
Подъемлет солнце муравей; [NB: в ориг. – «поднимет»]
Скорей вода с огнём смесится;
Кентаврова скорее кровь
В бальзам целебный превратится, –
Чем наша кончится любовь.
Тоже как-то… не было отзвука, вот так я бы сказал.
[Бродского им можно было дать.]
Не знаю, чего им… Нет, вы знаете, вопрос не только в этом. Вопрос в том, что… и вот об этом, может быть, надо … можно поговорить отдельно – о том, что для времени… вот, для основного времени моей жизни, как бы сказать, культурный продукт… как… и не только культурный, на самом деле, всякий, представлял собой конечную… конечный замкнутный ассортимент, в общем, обозримый. Понимаете? Этого моря, в котором можно утонуть, тогда не было. Понимаете? Поэтому я знаю… вышел Петрарка, книжечка Петрарки в переводе Эфроса, понимаете? Ее все зна… ну, все читающие люди ее знают, они ее прочитали, понимаете? Это событие. Выходит что-то там и т.д. Это одна сторона дела. И, во-вторых, конечно, стихи составляли очень большую часть духовной, как бы сказать… духовных потребностей, духовной жизни того времени. Это… действительно они много значили. Ведь понимаете, когда Евтушенко… выступление Евтушенки собирало стадионы, и искренне. Когда его, понимаете… Кто самый известный поэт в России? Евтушенко. Это серьезно. Последняя, я не знаю, какая-нибудь школьница во Владивостоке, она, может быть, не знает, я не знаю, много чего, но кто такой Евтушенко – она знает. Им зачитывались, понимаете? Я это… я не о качестве стихов Евтушенки, поэт он довольно средний, с моей точки зрения. Ну, не последний, но, во всяком случае, не Бог весть что и, конечно, не переживший… переживший свою собственную и популярность, и, в общем, и т.д., но, тем не менее, вот сама по себе вот эта вот потребность в этом… ну как, понимаете, сейчас концерт, понимаете… этого самого…Маккартни, понимаете? Вот такого, вот такого масштаба, понимаете? Так, такое было, понимаете? Сейчас это невозможно себе представить.
[А Вознесенский – это «фи», Сергей Юрьевич? Вознесенский Андрей. Ведь он, в общем, чуть ли не в одно время, да, с Евтушенко и выступал; стадионы не собирал, конечно.]
Он да, в одно время, да. Этого примерного того же време[ни], примерно тот же круг, примерно тот же круг и т.д. И он… Ну, понимаете, это отдельная, вообще, отдельная история. Все они на самом деле… Вознесенский очень талантливый человек, в каком-то смысле, может быть, талантливее Евтушенки. Человек с чувством слова, с чувством образа и т.д. Но при этом в нем было что-то такое… как бы это сказать?... какое-то дурновкусие какое-то, причем оно было, я бы сказал, и такое вот… и эстетическое, и политическое. Ну, не может человек со вкусом написать: «Но, товарищи из ЦК, / Уберите Ленина с денег…». Вот это… ну, невозможно это вот. Потому что мы все в это время… и про Ленина знали тоже, уже это всё, так сказать, все-таки, знаете… Не говоря уже о самом… Ну, что за царедворство, понимаете? В этом подозревалось лицемерие, скажем так, и оно, видимо, и было. Ну и потом… ну и вкус ему изменял во многих… ну, это и у Евтушенки тоже там... Евтушенко более усредненный такой, но неплохой был лирический поэт местами. Неинтересный в тех местах, где он подражал Маяковскому и хотел быть Маяковским. Но я помню, что Варлам Тихонович говорил: «Ты думаешь, что, – говорил, – Маяковскому такая популярность, какая у Евтушенки, близко не снилась вообще». Говорит: «Ничего такого». Ну, конечно, эти самые футуристические выступления… ну, сколько они могли собрать? А что творилось на этих… Да. Вот было же, было… была такая вещь, был такой феномен… Я про него не могу рассказывать, я не был свидетелем, я как-то не удосужился туда ни разу толком сходить. Нет, был один раз, но как-то не очень мне было… Я, вообще, не люблю многолюдство, у меня эта некоторая фобия есть такая. Это площадь Маяковского с чтением стихов. Ну, ее разогнали потом, вполне политически, вполне таким ГБистским образом. Но она… это было, что это… это тоже, так сказать, ну… И там читали стихи, там, я не знаю… там вот просто собирался народ. Толпа. Чем они занимались? Они читали стихи. Ничего другого. Вот вся площадь Маяковского была запружена. Там были и какие-нибудь смогисты, так сказать… ну, как бы такие, андерграундные, так сказать, и т.д. Но были там, по-моему, и Евтушенко тут… вполне читал там стихи и т.д. Была такая вольная трибуна. Ну, зато, в конце… в конечном счете, смогистов арестовали… ну, в общем… ну, кого арестовали, кого нет. Ну, покойный Дубин в этот круг входил, например, вот Борис Дубин.
[У нас, по-моему, это было у памятника Блоку. Я не знаю, они сейчас собираются, читают стихи, нет?]
[Меня звали в [нрзб. 02:05:03,532]. – Сейчас собираются еще. У памятника Блока сейчас каждый год собираются, или каждое воскресенье летом… Ну, в общем, как-то читают стихи. – Женя Литвин меня звала.]
Да. Нет. Вот как собирались… А про площадь Маяковского есть воспоминание и, видимо, не одно… я говорю, что я… не могу об этом особенно рассказывать, поскольку у меня нету… нету ярких впечатлений. Я помню вот эту… толпа, вот… и кто-то стоит, читает стихи. Но ничего не помню: ни кто это, и, скорее всего, и не знал и т.д. Вот у меня… я в университете учился, там мои сокурсники, половина из них были поэты. Игорь Волгин… ну, он немножко в стороне, тоже был поэтом, сейчас он скорее литературовед. А этот самый… Еще там были всякие ребята, тоже все писали стихи. Так принято было. Ну… а про песни я еще потом доскажу, потому что у меня была еще одна и очень интересная поющая компания – это было… тартуские летние школы. Там тоже пели. Но это потом. Устал.
[Хорошо. Спасибо!]